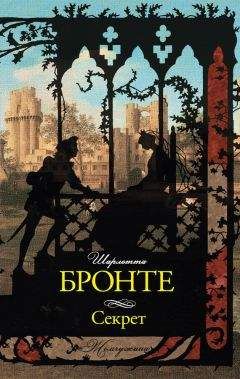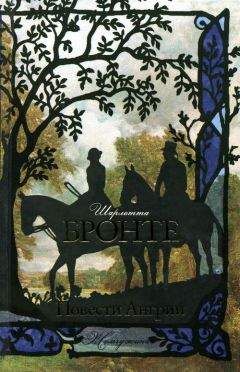— Благодарение Богу, свидетельство уничтожено!
— Как вы посмели? — прогремел Элрингтон, подходя к ней и машинально хватаясь за пистолет, спрятанный у него за пазухой. — Будь вы мужчиной, я бы застрелил вас на месте!
— Стреляйте, — проговорила Марианна без тени страха, — и оборвите жизнь, которая мне больше не мила.
— Нет, — ответил он, убирая пистолет назад. — Я вас не убью, но сделаю то, что в вашем нынешнем состоянии будет немногим лучше смерти. Я запру вас здесь и буду держать, покуда не расскажете, что было в уничтоженном вами документе.
— Этого я не открою, и каждый ваш следующий поступок укрепляет мою решимость хранить молчание.
— С ума она, что ли, сошла, эта глупая девчонка? — мрачно хмурясь, проговорил Элрингтон. — Забыла, кто она и кто я?
— Нет, милорд, но чувства, которые я к вам испытываю, прорываются вопреки всем моим усилиям.
— Что ж, за свою несдержанность вы останетесь здесь по меньшей мере до рассвета. Если в следующие пять-шесть часов будете вести себя хорошо, я, возможно, вас отпущу, чтобы вы успели объяснить маркизу причину своего отсутствия.
Тщетны были все мольбы, возражения и даже слезы Марианны — Элрингтон оставался непреклонен. До конца ночи ей пришлось выслушивать оскорбительные намеки и ненавистные комплименты своего тюремщика.
Наконец, когда пламя свечи поблекло в проблесках зари из высокого узкого окна, послышался осторожный стук.
— Кто там? — прогремел лорд Элрингтон.
— Всего лишь я, — раздался из-за двери голос его жены. — Хочу спросить, Александр, намерены вы лечь сегодня до утра или нет?
— Как вы смеете задавать подобные вопросы?! Немедленно в постель, ответа не будет!
Зенобия, поняв по голосу, что супруг не в духе, спешно ретировалась.
— Теперь, — проговорил Элрингтон, поворачиваясь к маркизе, — я позволю вам уйти.
Он отпер дверь и повел обрадованную Марианну через галерею и вестибюль к парадному выходу, где собственноручно отодвинул засов. Маркиза, не дожидаясь прощальных церемоний, шмыгнула мимо своего тюремщика, легко, как лань, сбежала по ступеням на улицу и через мгновение уже скрылась из глаз. К тому времени, как она достигла Уэлсли-Хауса, небо на востоке уже пылало золотом. Тем не менее величественный дом был совершенно тих. Марианна позвонила в колокольчик у задней двери.
— Ой, госпожа, — проговорила верная Мина, открывая, — я так рада, что вы здесь! Ну и натерпелась же я за вас страху!
— Маркиз дома? — спросила хозяйка.
— Да, вернулся часа в три. Я уж думала, сейчас он увидит, что вас нет, и тогда все пропало, но, по счастью, он ушел в свою спальню и по-прежнему ничего не знает.
— Хвала небесам и Верховным Духам, которые меня хранят! — воскликнула маркиза. — А теперь, Мина, иди ложись, ты наверняка устала. Я разденусь сама.
Горничная вышла, и через несколько минут ее госпожа, истомленная горем и долгими часами бодрствования, на время забылась утешительным сном.
Не проспала она и трех часов, как ее разбудила Мина.
— Вы встанете госпожа? — осведомилась служанка. — Маркиз прислал сказать, что завтрак на столе.
— Который час? — спросила Марианна.
— Девять, миледи.
— Ой! Тогда, конечно, встану. Как нехорошо, что ему приходится меня ждать!
Маркиза оделась быстро, ибо ее утренний наряд являл собой воплощение изящной простоты; нескольких движений гребня хватило, чтобы привести в порядок блестящие, от природы кудрявые волосы. С отчаянно бьющимся сердцем спустилась она в комнату, где был накрыт завтрак, ведь ей предстояло увидеть мужа впервые после встречи, описанной в одной из моих предыдущих глав. Тогда Артур ушел в гневе, настрого запретив ей видеться с мисс Фоксли — и как она исполнила волю супруга?
Артур сидел спиной к двери и читал газету. Марианна ступала так легко, что он не слышал, как она вошла. Заговорить первой маркиза боялась, поскольку не знала, прошел ли его гнев, поэтому тихонько уселась на свое место и принялась раскладывать по местам ложечки и прочее.
Артур, услышав звяканье фарфора и серебра, с улыбкой поднял голову.
— Что же вы со мною не здороваетесь, Марианна? Надеюсь, не от обиды, что вас подняли с постели в такую рань?
— Вовсе нет, Артур. Наоборот, я стыжусь, что заставила вас ждать. Но простите меня, ведь обычно я бываю точна.
— Я подумаю, — игриво отвечал он. — Может, и прощу, поскольку не чувствую склонности очень уж негодовать по этому поводу.
Завтраки моего брата обычно растягиваются часа на полтора: вместо того чтобы есть как люди, он лениво почитывает утренние газеты и, по выражению моего опекуна[70], прихлебывает и кусает с перерывами в пятнадцать минут. Многие мои знакомые дамы закатили бы истерику, заставь их мужья столько просиживать с ними за столом, однако маркиза Доуро почитает заботу о супруге и повелителе за честь и потому, закончив свою скромную трапезу, обычно берет вышивку и терпеливо орудует иголкой, покуда не будет дочитана последняя газетная статья.
В то утро ее работа поминутно прерывалась тягостными вздохами. При каждом таком выражении горя, срывавшемся с ее губ, маркиз, невидимо для жены, поднимал глаза от газеты и со странным выражением устремлял их на Марианну, когда же вновь возвращался к опубликованной речи или статье, в первый миг казалось, будто мысли его заняты отнюдь не чтением.
Все в подлунном мире когда-нибудь заканчивается; закончился и завтрак Артура. Лакей убрал посуду, и Марианна приготовилась идти в детскую, когда маркиз внезапно поднялся и, подойдя ближе, взял ее за руку.
— Марианна, — проговорил он после недолгого молчания. — Вы сегодня очень бледны. Что тому причиной?
— Я… я плохо спала ночью, — запинаясь, выговорила она, трепеща как осиновый лист.
— Должно быть что-то еще, иначе бы вы так не дрожали. И почему ваша рука вдруг так похолодела в моей?
— Не знаю, — ответила Марианна, силясь выдавить улыбку, но вместо этого в ее синих глазах выступили слезы.
Маркиз посмотрел на жену так, будто хотел заглянуть в самую глубину ее сердца, и проговорил тихо, угрожающе:
— Вы меня ослушались? Вы встречались с этой женщиной и вновь подпали под ее власть?
Наступило молчание. Марианна была почти уничтожена. Бледность и румянец, сменявшиеся на ее щеках, говорили о силе чувств, разрывающих душу несчастной. Она не могла говорить, не могла смотреть на своего властного супруга и только стояла, недвижная и безгласная, словно обратилась в камень.
— Отлично, — проговорил Артур, выпуская ее ладонь и сурово складывая руки на груди. — Ваше молчание вполне красноречиво. Вы предпочли поддаться собственному слабоволию наперекор моей воле. Я предупреждал, что в таком случае мы немедленно расстанемся. Не в моем обыкновении бросать слова на ветер. Начиная с сегодняшнего дня вас будет ждать дорожная карета. В течение трех суток вы должны уехать в имение моего отца в Веллингтонии. Скорее всего это наш последний разговор, потому что я не могу любить непослушную жену.
— Артур, мой любезный Артур, не уходите так! Вы бы смягчились, если бы знали все!
— Так расскажите мне! — воскликнул он, торопливо выпуская дверную ручку, которую уже начал было поворачивать.
— Не могу!
— Почему?
— Я связана обещанием не советоваться с вами в течение недели. А когда этот срок выйдет, боюсь, никакие советы уже не помогут и я вынуждена буду оставить вас навсегда.
Маркиз собрался ответить, но тут дверь отворилась, и вошел его светлость герцог Веллингтон. Он замер на пороге и, пристально оглядев Артура и Марианну, спросил тихо:
— Чем вы оба расстроены? Я что, пришел аккурат к не лучшему моменту супружеской идиллии?
Ответа не последовало; Артур лишь отошел к окну и стал смотреть на проплывающие облака. Тогда его светлость обратился непосредственно к даме:
— Что же вы такого натворили, Марианна, отчего ваш супруг стал мрачнее тучи?
Марианна залилась слезами.
— Я не хотела его обидеть, — рыдала она, — но…
— Но что, милая? Надеюсь, это не беспричинное тиранство с его стороны?
— Нет-нет-нет, просто он хочет знать то, что я не могу ему сказать.
— И что же это? Можете вы сказать мне?
— Да, — проговорила маркиза, поднимая голову, и в ее еще влажных глазах блеснула улыбка. — Думаю, что могу. Советы вашей светлости будут для меня ценнее любых других, а хранить секрет от вас я не обещала.
— Вот и славно, дитя мое. Садитесь рядом со мной, и выслушаем ваш замечательный секрет.
Марианна села подле герцога, как тот сказал, и некоторое время молчала, собираясь с духом. Наконец черты ее приняли выражение если не спокойствия, то обреченной решимости, однако глаза по-прежнему блестели, как в лихорадке, а голос дрожал, когда она произнесла: