Это было изумительное видение! И сейчас, при одном воспоминании о ней, Петровича охватывает умиление. Он хорошо помнит, что сразу зажег все двенадцать лампочек.
Она приходила с просьбой о пособии для сына-гимназиста.
Горькие слова, сладкая улыбка. Рассказывая о своих злоключениях, улыбкой она как бы пыталась их смягчить, и от горечи ничего не оставалось. Слова ее были милы, жесты шутливы, а зубки блестели так весело, что мрачные краски блекли, и даже не верилось, что ей тяжело живется. Видимо, она не хотела, чтобы ее жалели, вот и бодрилась.
По ее словам, она происходила из зажиточной семьи. Вышла замуж. С мужем жили хорошо. И все было бы прекрасно, если б не проклятая жажда богатства. Они арендовали большой участок земли, а доходы их все сокращались и сокращались. С хозяйством они не справились. Муж умер. Совсем разорившись, все потеряв, с пятьюстами кронами и с маленьким сыном она отправилась в Братиславу искать заработка. Но у нее не было знакомых. Сына пришлось отправить к родственникам в Брно. Сейчас она работает в Центральной молочной, получает шестьсот крон в месяц. Половину жалованья посылает сыну. Здесь, в Братиславе, она не могла бы уделять ему достаточно внимания — весь день занята. Право же, все это прозаические и печальные дела… Но она улыбнулась, чтобы подбодрить себя и не огорчать Петровича. «Это не так страшно», — говорили ее улыбка и шутливая гримаска. Она снимает маленькую темную каморку с окном во двор. Платит за нее сто пятьдесят крон. «Было бы хуже, да некуда», — смеется она. Обедает через день… Она весело щурится: «И все же, смотрите, какой у меня свежий вид!»
Она явно играла — так показалось Петровичу, он был смущен: бог тебя знает, какие у тебя еще доходы! Молодая, красивая. Длинное меховое манто, на первый взгляд элегантное и добротное… Но стоило ей приподнять руку, в глаза бросились вытертые на локтях рукава.
Он поверил ей. «Ты порядочная женщина, — думал Петрович. — Твоя шубка — как твоя улыбка. Невнимательный отметит ее нарядный вид, но приглядись — и увидишь потертые локти».
И он пожалел ее. Скорее всего потому, что просительница была красива. Бедных много, но те давно надоевшие, неприятные, грязные, в лохмотьях. Если он и помогал им, то делал это по обязанности, равнодушно, привычно. А у этой дамы сразу три ходатая: красота, бедность и сочувствие. Большая разница — видеть в грязи рваный башмак или сверкающий алмаз. Башмак пускай себе валяется, а за алмазом мы наклонимся — он должен сиять там, где ему пристало…
Петрович полез было в карман за бумажником, чтобы сразу же обрадовать просительницу. Но мысль: «А не будет ли это выглядеть подачкой?» — остановила его. Не хотелось портить впечатление. Вдруг она скажет: «Я пришла не за милостыней»? Нет, дать ей деньги — значит унизить ее. Предложить ей место у себя в конторе?.. Петрович вовремя прикусил язык. У нее же есть работа, а платить ей больше, чем она получает сейчас, не возбудив подозрения и зависти у других, он не сможет.
Он подумал было — а если она станет его «подругой»? Но эту грязную мысль он тут же отбросил. Нет, нельзя с первой же встречи вымогать у нее любовь в обмен на пособие для сына! Эксплуатировать ее нищету, наживаться на ее благодарности! Нет и нет! Это не в его характере и бросило бы на него тень. Петровичу захотелось щегольнуть своим бескорыстием и человеколюбием. Записав фамилию и адрес вдовы, он заверил:
— Я выхлопочу пособие для вашего сына, сударыня.
И выхлопотал. Сам бегал по кабинетам, убеждал поскорее уладить дело, разыскал референтов по вопросам просвещения — Кореня и Крокавца. Те дали согласие. Крокавец, правда, полюбопытничал:
— Она хоть красивая, эта вдова?
Петрович не ответил на этот нескромный циничный вопрос, хотя и сам не раз задавал подобные же. В комитете тоже никто не возражал. Пособие утвердили. Обрадованный, он сообщил об этом пани Микушаковой частным письмом.
Вдова пришла поблагодарить его. Она была растрогана и улыбалась сквозь слезы:
— Я никогда этого не забуду, пан депутат.
Ослепленный ее мягкой красотой, Петрович великодушно бросил:
— Пустяки, не стоит благодарности. Это пособие я могу сделать постоянным. Если вы в чем-либо будете нуждаться, очаровательная сударыня (так и сказал), обратитесь ко мне.
Когда она — вероятно, уже в третий раз — протянула ему на прощание руку, он привлек ее к себе. Губы ее были совсем, совсем близко…
«Что она скажет, если я ее поцелую?» — подумал он и не поцеловал: это был бы купленный поцелуй.
Он подавил нескромное желание и все же, не сдержавшись, шутливо сдвинул охотничью шляпу с пером сойки еще сильнее набок. Пожалуй, это было навязчиво. Нет, нет, этим он, конечно же, вовсе не хотел дать понять, что ему полагается другая награда, не просто «спасибо» и банальное «я этого никогда не забуду». И как-то невзначай снова подумалось о красивой «приятельнице», совсем недорогой, от которой он откупился бы самое большее — пустячным пособием для сына, ну, и добавил бы еще немного от себя. И уж безусловно, она обходилась бы ему дешевле, чем танцовщица, на которую тратишь последнюю сотню крон и обнаруживаешь, что она обманывала тебя, еще когда ты разменял первую тысячу. Эстера была бы надежной, чистой и здоровой подругой. А помимо законной жены еще и «подруга» — все равно что второй фрак. Роскошь, излишество, но — удобно. Приличное общество не поставило бы это ему в упрек. Обыватели, конечно, завидовали бы, а может, и нет… Не видя двух фраков одновременно, а лишь тот, в котором он будет в данный момент… Конечно. Вот только вездесущие налоговые чиновники пронюхают все и тотчас повысят налоги: «Если ты можешь позволить себе два фрака — плати». Недавно один из них с укоризной заметил, что Петрович ежедневно меняет галстуки. Выходит, уже достаточно лишнего галстука, чтобы тебе увеличили налоги! Что же говорить об автомашине, манто, драгоценностях, квартире, ужинах и хозяйстве? Куда уж вторая «подруга жизни»! К тому же неизвестно, как отреагирует на это законная жена. Пани Людмила, разумеется, современная женщина и изо всех сил старается быть на уровне, проповедует эмансипацию, выступает против предрассудков в любовных отношениях, за свободу любви, но подобную эмансипацию вряд ли потерпит.
Петрович до мелочей помнил все, что думал и говорил во время этих двух приятнейших визитов. Мысль о «дружбе» он отбросил, но руку дамы не выпустил, долго, чуть пожимая, держал в своей, и Эстера лишь для виду мягко пыталась высвободить ее, словно говоря: «Держи, пожалуйста, я не сержусь…» Дивная красавица! Петрович был в сильном возбуждении. Нравилась она ему необыкновенно.
Он всем сердцем готов был дать молодой одинокой вдове постоянное пособие…
Но он ее не целовал! Об этом и речи не было. «От меня Лулу не мог этого слышать! Целовался кто-то другой. Но кто?»
Тысяча чертей! В его кабинете! В его личном кабинете! Жена? Пани Людмила?
Эмансипация женщин?.. Свобода любви?..
Чело Петровича омрачилось. Людмила вечно вертится среди молодежи. А молодые люди, как вино, особенно выдержанное, взбудораживают… Пани Людмила — женщина не старая; впрочем, женщины в любом возрасте и любого положения молодятся — достаточно доглядеть на эти жалкие развалины, что таскаются по кафе и по паркам, то и дело глядятся в зеркальце, чтобы припудрить и подкрасить свои помятые физиономии, где — красным, а где — черным. Ах, тяжко расставаться с молодостью, тяжко замечать первые нити морщин на лице!
Петрович не раз отмечал, что жена, имея возможность побеседовать с человеком пожилым, серьезным и содержательным, предпочитает более молодого и пустого. Ее манит ручеек, весенний, звенящий поток, шумливый и беззаботный; его легко перейти вброд, запрудить ногой и снова отпустить или направить в другую сторону, поставить на нем мельничку и забавляться, наблюдая, как эта мельничка крутится-вертится. Пани Людмилу не манит полноводная, повидавшая не одну страну и не один цветущий берег река с водоворотами. Такой реке не до забав, она уже не зажурчит, не забулькает, тихо и достойно несет она свои воды, но чуть зазеваешься — и увлечет тебя в пучину, в глубину, на каменистое дно. В такой реке и утонуть недолго, если бросишься в ее объятья… Уж лучше иметь дело с юными ручейками!
Свои эротические склонности, как отмечал Петрович, она прикрывает заботами о Желе.
Однажды он попенял жене, что ей не к лицу дурачиться с молодыми людьми, и в ответ услышал обоснованную речь:
— Матери всегда жертвуют собой. Ты воображаешь, я ради собственного удовольствия так мила, весела и внимательна к этим желторотым? Все ради Желки. Не хватало, чтоб я смотрела на молодых людей твоими глазами! Бедная Желка! Мне приходится быть обворожительной ради нее же; чтобы Желка развлекалась, приходится развлекаться и мне и развлекать при этом других.
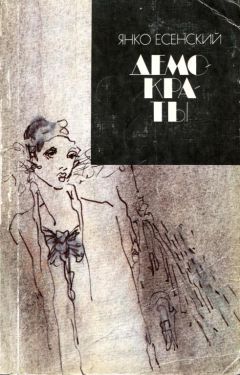

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


