Петрович походил по комнате и резко остановился под люстрой, словно кто-то невидимый хватил его кулаком по темени. Он попятился, затем повертел головой, как будто воротник душил его, энергично качнул головой влево и решил — о да, он возьмет на себя эту благородную миссию!
Петрович снова засновал по кабинету, все больше вживаясь в свою роль и энергично тряся головой. Мысленно он перебирал и возможные возражения.
«Что ж, превосходно, господа, — импровизировал он свою будущую речь, — мы изымем из обращения гордую фразу: «Я добьюсь для вас этой субсидии. Я дам вам это. Я займусь этим делом и дорогу непременно проведу. С моей помощью этот лес будет разделен на участки между вами и превращен в пашню или выпас. Уж я позабочусь, чтобы построили новый костел… Я построю вам дамбы на реке, но и вы со своей стороны не подкачайте… Я не потерплю наводнения… Я не допущу, чтобы ваш хлеб смыло водой… Я обеспечу вам семена, но уж и вы…»
А как поведут себя избиратели, если не станет субсидий и мне нечего будет им обещать? Они перестанут за нас голосовать!.. К тому же в комитете сидят референт по делам культуры Корень и референт по социальным вопросам Мангора. Если я их не поддержу, выступлю против их пособия, они завалят мои предложения. Наше вам почтение! Обязательные люди эти господа! Взять хотя бы этого Кореня, ретивый католик и «людак», подозрительный, осторожный, к тому же образованный, начитанный и ужасно расчетливый человек. Казалось, все уже выяснено, решение готово, вопрос единогласно проходит, и тут он берет слово. Как по нотам разыграет сонату из слов, и сразу тут тебе и до-минор и до-мажор. Атакует чувства и разум, обрушит на всех кучу эмоциональных, рассудочных, нравственных, психологических, теоретических и практических доводов. Они так и льются из его уст, убеждают, пленяют, лезут в голову, проникают в сердце, впитываются в кровь. Все радостно хлопают ему, и потоком его красноречия принятое было решение смывается, уносится, миг — и его как не бывало, оно исчезло.
С таким не потягаешься!
Сравнивая Кореня с собой, Петрович вздохнул: да, Корень уверенно простирает свои могучие крылья над просвещением (впрочем, крылья Петровича, что касается народнохозяйственных дел, ничуть не слабее). Корень ни в чем не уступает второму референту по делам культуры — Крокавцу. Корень — силен, энергичен, настойчив. Крокавец — джентльмен, элегантный, вежливый, флегматичный и уступчивый в мелочах, но когда дело касается серьезных вещей, его не прошибешь.
Петрович невольно оглянулся — не слышит ли его Крокавец?
«Итак, что же получается в итоге? Если Крокавец хочет выцарапать какое-либо пособие своей школе, своему художнику, своему союзу, Корень сразу же ставит свои условия. «Коллега, — скажет он, — в принципе я не против, но согласись, ведь нас больше и наши нужды значительнее. Если ты, коллега, своим голосом поддержишь просьбу хотя бы трех наших богоугодных заведений, если ты согласен, чтобы по крайней мере три наших дома культуры были щедро субсидированы и если при закупке картин будут соблюдены интересы хотя бы двух наших художников, тогда, пожалуй, я не возражаю, чтоб и твоей школе, твоему обществу и твоему художнику что-нибудь перепало».
И Крокавец по-барски небрежно махнет рукой: «Пожалуйста». Ему плевать, он готов и втройне платить».
— Так вот, уважаемые господа присяжные заседатели и уважаемые судьи, — вдруг заговорил депутат вслух, не замечая, что обращается, собственно, не к суду, а к уважаемому комитету. — Я бы несколько ограничил культурные запросы Кореня…
Он безвольно опустил поднятую было правую руку с повесткой, голова его поникла. И хрипло, словно его держали за горло, прошептал:
— Если я выступлю против Кореня — завалят все мои навозные ямы, навозная жижа растечется без пользы. И рад бы выступить, да не могу… Скажу не дать пособия ремесленникам — на меня обрушится Клинчек, их защитничек… Выступлю против нужд еврейской благотворительной лавочки — в меня вцепится коллега Мангора… Да попробуй я только пикни — на меня ополчатся сразу все одиннадцать культурных, промысловых, социальных, санитарных, дорожных и народнохозяйственных референтов, коллег-депутатов… Не могу… В самом деле не могу…
Он повернулся к попугаю Лулу и сдавленным голосом тихо-тихо прошептал:
— Не мо-гу.
Лулу завозился и постучал клювом по толстым прутьям клетки. Он давно наблюдал за Петровичем в ожидании подходящего момента, когда можно будет что-нибудь крикнуть хозяину, оказаться на свободе, сесть ему на большой палец и прижаться к щеке, чтоб его нежно погладили и похвалили. Не уверенный, что такой момент уже настал, Лулу на всякий случай решил немного выждать. И очень кстати, потому что хозяин как раз подводил итог своим размышлениям.
— Как же быть? — спросил он вслух и тут же и ответил: — А никак. Нечего вылезать. Промолчу. Умней и не придумать. Рука руку моет. Пусть каждый получит то, что ему причитается, мы поддержим друг друга всегда и во всем, отбросив зависть. Это и есть кроткое, идеальное содружество, товарищество коалиционных мнений, партий, положений, стремлений, толков и фактов. И все довольны. Все найдут применение своим способностям и все смогут зачерпнуть из общего горшка хотя бы ложку каши с маслом. Я ничего не скажу.
Он швырнул пачку листков на стол, подошел к клетке и, как бы еще сомневаясь, спросил птицу:
— Не нужно выступать, правда, Лулуша? Верно?
Обрадованная птица грациозно затанцевала на жердочке, закивала головой и прокаркала утробным женским голосом:
— Верно, верно, верно!
Петрович отворил дверцу и протянул Лулу указательный палец.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В поисках поцелуев
И зачем он протянул Лулу свой палец! Не знал бы лишних хлопот. Потому что словоохотливая серая птица с кривым носом, поддакнув депутату: «Верно, верно, верно!», вне всякой связи с ходом мыслей своего хозяина и нашего повествования вдруг заверещала:
— Целуй меня, целуй меня, целуй меня!
Право, это повесткой не предусматривалось!
Случается, в темном переулке ни за что ни про что получишь затрещину. В ухе звенит, рядом кто-то промелькнул, но поди узнай в темноте, который из соседей решил свести с тобой счеты!
Петрович поспешно засунул попугая назад в клетку.
— Ах ты горбоносая еврейская уродина, — озлился Петрович, вместо того чтобы согласно высказанному птицей желанию приласкать и погладить ее, как он иногда делал.
Все заботы о пособиях разом вылетели у него из головы, так улетает с забора подальше на огороды стая вспугнутых сорок. До сих пор познания Лулу о поцелуях ограничивались прокартавленным с трудом «целую ручки!». А тут он совершенно отчетливо три раза подряд произнес: «Целуй меня, целуй меня, целуй меня».
Здесь целовались!
Страсть сжигала чьи-то тела, бушуя и рассыпая поцелуи. Кто-то держал монетки в открытом сердце, как на протянутой ладони, по ней стукнули снизу, и монетки разлетелись, раскатились во все стороны. Их надо собрать!
И Петрович начал поиски. На мгновение у него даже промелькнула испуганная мысль — не на него ли самого указывает Лулу?!
Петрович опустился в кресло у письменного стола и порылся в тайниках своей памяти: не целовался ли он сам тут, в кабинете?
С женой? Это исключено. Не мог он требовать от нее так страстно, да еще три раза подряд, этого божественного напитка… Жена от него — тоже. Прошли те времена. Тогда Лулу еще каркал в Африке. Теперь, прощаясь или здороваясь, они прикладываются друг к другу щеками и чмокают губами в воздухе, иначе ему пришлось бы утираться от пудры, а ей пудриться заново.
В таком случае кто же?
Ну, признаться, щипал он прислугу Маришку, брал ее за подбородок с ямочкой посредине. И не больше. Ну… гладил ногу выше колена, а однажды она протирала хрустальные подвески на люстре, стоя на стремянке, и он схватил ее за коленки. Но это так… по-отечески. Она лягнула его ногой в домашней туфле, и это их как-то сблизило… Постойте, постойте… Нет, до поцелуев дело не дошло. Не хватало еще этих нежностей… Просто ему претит изображать из себя строгого и хмурого буку… Только и всего.
И вдруг, как протертые хрустальные подвески люстры — когда горят все двенадцать лампочек, — в глубине памяти адвоката ясным, веселым, доверчивым светом вспыхнули большие темные глаза. Окруженный ореолом, вынырнул образ молодой вдовы Эстеры Микущаковой. Мягкая зеленая шляпка, кокетливо сдвинутая на правое ухо. На шляпке задорно торчит короткое перышко сойки. Бровки — не стриженые, не крашеные, не подбритые, а такие, какими их создал господь бог, — раскинутые черные крылышки. Высокий тонкий треугольник носа над изгибом верхней губы. Во рту, как в драгоценной шкатулке, выложенной алым бархатом, два ряда сверкающих жемчужинок, созданных для того, чтобы на них смотрели не отрываясь, а губки этой высокой и стройной дамы были созданы исключительно для неугасающей радостной улыбки.
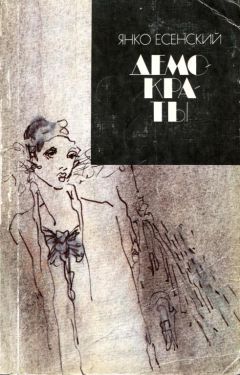

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


