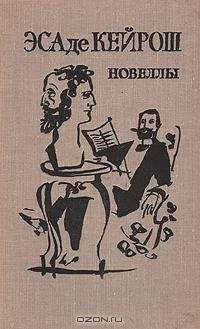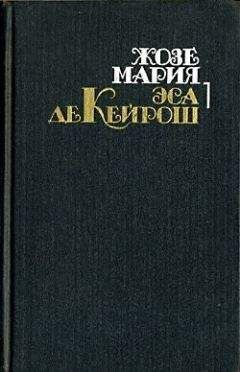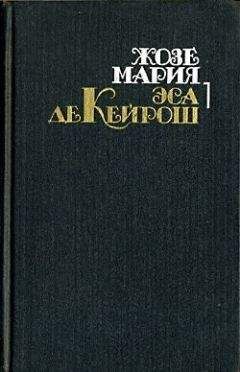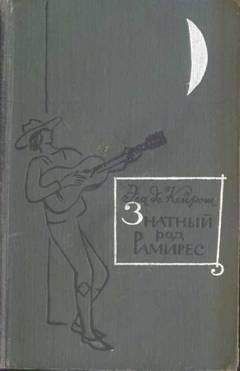— О великие боги! Всемогущие боги! Как вы ревнивы и бессердечны к богиням, которые не скрываются в лесной чащобе или горных расселинах и открыто любят сильных и красноречивых мужчин!.. Ведь того, к кому вы меня приревновали, море выбросило на песчаный берег моего острова нагим, побежденным, голодным, привязанным к мачте разбитого корабля и преследуемого всеми ветрами и молниями, коими располагают на Олимпе. Я же подобрала его, умыла, накормила, полюбила, укрыв от всех напастей у себя, чтобы избавить его навсегда от мучений, болезней и старости. И вот громовержец Юпитер спустя восемь лет, за которые я, точно обвившая вяз виноградная лоза, страстно привязалась к нему, сделав своим избранником и вечным спутником в моей вечной жизни, приказывает мне расстаться с ним. О, как вы жестоки, боги! Вы, которые каждый день множите мятежное племя полубогов, занимаясь любовью со смертными женщинами! Да и как я смогу отправить Улисса на родину, если у меня в распоряжении нет ни кораблей, ни гребцов, ни лоцмана, который провел бы между островами? Но может ли кто-нибудь противиться воле Юпитера? Да будет так, как велит громовержец! И пусть ликуют на Олимпе! Я же научу неустрашимого Улисса, как построить надежный плот, которым он, как бывало прежде, рассечет зеленый хребет моря…
Тут же посланник богов Меркурий поднялся со скамеечки, обитой золотыми гвоздями, взял в руки жезл-кадуцей и, испив последнюю чашу превосходного нектара, похвалил богиню за послушание:
— И хорошо сделаешь, Калипсо! Только исполнив повеление отца-громовержца, можно избежать его гнева. Да и кто осмелится ослушаться? Всезнающий Юпитер всемогущ. Он, как на скипетр, опирается на дерево, цветку которого имя — Порядок. Решения, кои он принимает, даруя добро или зло, жизнь или смерть, всегда справедливы. Вот почему его рука всегда наказует мятежника. За свою покорность, Калипсо, ты станешь любимой дочерью и будешь наслаждаться своим бессмертием спокойно, не ведая интриги превратностей судьбы…
И в тот же миг крылышки на его сандалиях затрепетали, и его необычайно гибкое красивое тело поднялось в воздух, покачиваясь над цветами и травами, ковром выстлавшими вход в грот.
— Да, богиня, — добавил он, — твой остров лежит на пути смелых мореходов, бороздящих зеленые воды. И очень возможно, что не за горами тот день, когда другой герой, оскорбив бессмертных, очутится на мягком песке твоего пляжа, сжимая в объятьях обломок корабля. Зажги поярче маяк на высоких скалах.
И, смеясь, посланец богов спокойно поднялся и исчез высоко в небе, оставив после себя светящуюся полоску, глядя на которую нимфы отложили в сторону работу и, приоткрыв свежие уста, жаждущие поцелуя этого бессмертного красавца, затаили дыхание.
Тогда опечаленная Калипсо, накинув на свои вьющиеся волосы вуаль шафранного цвета, отправилась через поля и луга на берег моря. Шла она очень быстро, и ее туника то и дело вскипала белой пеной вокруг ее округлых розовых ног. Ступала она так легко и неслышно, что неотрывно глядевший на полированную гладь моря благородный Улисс, сжимая черную бороду в своих больших руках и облегчая тяжесть сердца частыми вздохами, не услышал ее приближения. Богиня надменно, чуть печально улыбнулась. Потом, положив на широкое плечо героя свои прозрачные персты, как у розоперстой Эос, матери дня, молвила:
— Не сокрушайся боле, несчастный, не изнуряй себя, глядя на море. Всемогущие и всеведущие боги решили, что ты должен покинуть мой остров, встретиться лицом к лицу с переменчивым ветром и вернуться в свою родную Итаку.
Стремительно, камнем, как коршун с высоты бросается на свою добычу, бросился со скалы, поросшей мхом и лишайниками, изумленный Улисс к ногам богини:
— Истину ли ты молвишь, богиня?..
Она, протягивая к нему свои божественные руки, прикрытые вуалью шафранного цвета, продолжала, в то время как ласковые волны, одна за другой набегая на берег, льнули к ее ногам:
— Тебе хорошо известно, что нет у меня ни судна, на котором ты можешь выйти в открытое море, ни выносливых гребцов, ни лоцмана, что был бы в дружбе со звездами, которые укажут путь… Но я доверяю тебе бронзовый топор моего отца, и ты срубишь им те деревья, которые укажу я. Соорудишь плот и на нем выйдешь в море… Я снабжу тебя бурдюками вина, самой лучшей пищей и призову попутный ветер, чтобы вел тебя в неукротимом море…
Осторожный Улисс тихо отступил, вперив в богиню затуманенный недоверием тяжелый взгляд. Вскинув вверх дрожащую руку, он высказал то, что мучительно тревожило его сердце:
— О богиня, на тяжкие размышления наводит меня твое предложение встретиться лицом к лицу с грозными волнами. Ведь даже большие суда не всегда могут противостоять их силе. Нет, коварная богиня, нет! Я принимал участие в великой войне, в которой боги сражались наравне со смертными, и хорошо знаю их не имеющее границ коварство. И если меня не соблазнило пение сирен, если я сумел пройти благодаря своей хитрости между Сциллой и Харибдой и победить Полифема, что навечно прославило меня среди людей, то разве справедливо, о богиня, чтобы теперь здесь, на острове Огигия, я, подобно неоперившемуся птенцу, желающему вылететь из гнезда, попал в столь незамысловатую ловушку из медоволасковых слов!.. Нет, богиня, нет! Я ступлю на твой необычный плот в том случае, если ты мне дашь нерушимую клятву богов, что ты, взирая на меня столь нежно, не замышляешь верную мою погибель!
Так, стоя на берегу моря, говорил, задыхаясь от гнева, Улисс, самый благоразумный среди героев. Тогда благосклонная богиня засмеялась звонким, переливчатым смехом, подошла к герою и, проведя своими нежными перстами по его густым смоляным волосам, молвила:
— О хитроумный Улисс, ты и впрямь самый лукавый и самый изворотливый среди людей. Тебе даже в голову не приходит, что может существовать бесхитростная и искренняя душа! А я от своего славного отца получила в наследство нежное сердце! И хотя я бессмертна, сочувствую неудачам смертных. Только тебе я поведаю, что предприняла бы я, богиня, если бы судьба повелела мне оставить остров Огигия и пуститься в плаванье по неверным водам моря.
Улисс хмуро и осторожно уклонился от нежной ласки божественных рук.
— Поклянись… Поклянись, богиня, чтобы мою грудь наполнила, подобно молоку, приятная уверенность!
Она воздела свою прозрачную руку к небу, где живут боги:
— Клянусь Гейей, и небом, и подземными водами Стикса, клянусь самой страшной клятвой, какой могут клясться бессмертные, что я, о царь людей, не жажду ни твоей нищеты, ни твоей гибели!
Храбрый Улисс глубоко вздохнул. Засучив рукава туники и потирая крепкие руки, он спросил:
— Где топор твоего прославленного отца? Укажи скорее мне те деревья, о богиня! День короток, а работы много!
— Успокойся, жаждущий бед человеческих! Не торопись. Мудрые боги уже решили твою судьбу. Пойдем в прохладный грот, тебе необходимо подкрепиться… А завтра, как только розоперстая Эос заиграет над миром, я отведу тебя в лес.
III
То был час, когда все смертные и боги садятся за стол, где ждет их обильная пища, забвение забот, блаженный отдых и любезная, услаждающая душу беседа. Не заставив долго себя упрашивать, сел Улисс на скамеечку из слоновой кости, которая еще хранила аромат тела Меркурия. И тут же нимфы, прислужницы богини, поставили перед ним пироги, фрукты, дымящееся нежное мясо и отливающую серебром рыбу. Восседая на троне из чистого золота, богиня приняла из рук досточтимого стольника блюдо с амброзией и чашу с нектаром. Калипсо стала вкушать пищу богов, а Улисс — превосходную пищу смертных. Совершив щедрое жертвоприношение голоду и жажде, прославленная Калипсо, подперев свою голову розовыми перстами и задумчиво глядя на героя, обратилась к нему со следующей речью:
— О Улисс, хитрейший из хитрых! Ты жаждешь вернуться к смертным на свою родину… Ах! Если бы ты знал, как знаю я, что ждет тебя в пути, прежде чем глаза твои увидят скалистые берега Итаки, ты бы остался здесь, в моих объятиях, обласканный, ухоженный, сытый, одетый в тончайшие ткани, и никогда бы ни богатырская сила, ни тонкий, изощренный ум, ни красноречие не покинули бы тебя, потому что я сообщила бы тебе свое бессмертие… Но ты только и думаешь о своей смертной Пенелопе, которая живет на суровом острове, покрытом дремучими лесами. Меж тем я ничем не уступаю ей: ни красотой, ни умом; и более того, смертные рядом с бессмертными — все равно что чадящие светильники рядом с чистыми звездами…
Красноречивый Улисс погладил свою жесткую бороду, потом, вскинув руку, как обычно делал на ассамблеях царей под сенью высоких кораблей, стоящих у стен Трои, сказал:
— О достойная Калипсо, не гневайся. Я знаю, что Пенелопа уступает тебе и в красоте, и в мудрости, и в величии. Ты, пока существуют боги Олимпа, будешь вечно молодой и прекрасной, а к Пенелопе придут морщины, побелеет голова, набросятся болезни старости, и, опираясь на палку, она с трудом будет передвигать ослабевшие ноги. Ее рассудок помутится от беспросветного горя и сомнений. Твой же никогда! Он будет так же светел, как и сейчас. И именно потому, что она не совершенна, беспомощна, грубовата, я и люблю ее и хочу быть рядом! Подумай только: каждый день, сидя за этим столом, я ем ягненка с твоих пастбищ и фрукты твоих садов, а ты, восседая подле меня, торжественно, с медлительностью, достойной твоего происхождения, подносишь к губам только амброзию — пищу богов. За восемь лет, богиня, твое лицо ни разу не озарила улыбка радости, в твоих зеленых глазах не засверкала слеза, ты не топнула ногой, выказывая нетерпение, не застонала от боли на своем мягком ложе… Какая нужда тебе в тепле моего сердца, ведь твое божественное происхождение не дозволяет, чтобы я тебя радовал, утешал, успокаивал или растирал твои больные суставы соками лечебных трав. Ну, посуди сама, ты так умна, все видишь и все понимаешь: ведь за то время, что я в твоих владениях, близость наша не доставила мне удовольствия, я ни разу не поспорил с тобой и не почувствовал, что моя сила тебе необходима. О богиня, и самое страшное, что ты всегда права! И кроме того, подумай: ведь тебе известно все, что было и что будет с нами, смертными, и я не испытаю то ни с чем не сравнимое удовольствие, если, потягивая молодое вино, стану рассказывать тебе по ночам о своих блестящих победах и невероятных путешествиях! Ты, богиня, непогрешима, и потому я не смогу, если вдруг поскользнусь на ковре и упаду или у меня на сандалии лопнет ремень, накричать на тебя устрашающе громко, как это делают все смертные: «Это ты, ты, жена, виновата!» Вот почему я согласен смиренно терпеть все то, что ниспошлют мне всемогущие боги, когда окажусь один в бушующем море, лишь бы вернуться к моей земной Пенелопе, которой я могу повелевать, которую могу утешать, бранить, обвинять, учить, унижать и очаровывать, отчего любовь моя, подобно огню при изменчивом ветре, разгорается еще сильнее.