Ясно: приятель, лишь бы отказаться от поручительства, разыграл учителя. А я не мог взять и выгнать солидного человека, педагога, редактора. В том, что он учитель, я не сомневался: так наивны, доверчивы и непрактичны в достижении цели могут быть только педагоги. Я решительно отказал ему. Он сразу приуныл. «Может, вы будете так любезны и дадите хоть записочку к пану депутату?» Но для меня все было так странно и неприятно, даже оскорбительно, хотя и смешно.
— Ты не дал ему даже записки? — поразился Петрович.
— Мог ли я утруждать вас, дорогой дядюшка? У вас и без того столько забот! К тому же в этой просьбе мне виделось что-то обидное — не для вас, а для себя, для этого учителя.
— Это ты зря. Люди, как рыбы, хватаются за любого червяка. Уж записочку мог бы и дать.
— Да это не первый случай, с учителем-то. И до него приходили ко мне насчет квартиры, денежного вспомоществования, — какие дают учреждения своим служащим, — повышения в чине, концессий, и всякий раз просили, чтоб я замолвил за них словечко перед вами, дорогой дядюшка. Бог знает кто им наговорил, что я вхож в вашу драгоценную семью. Клянусь, я никогда ни перед кем не хвастал влиятельной родней. Но люди разнюхают, и теперь за ними дверь не закрывается.
— Надеюсь, ты не стыдишься нас?
— Помилуйте!
— За то, что ты ни о чем не просил, ставлю тебе на вид, — развеселился дядюшка. — Но ты особенно-то не роняй себя. Нынче всякий норовит казаться значительнее, чем есть на самом деле. Любая травинка думает, что она выше всех, а любая козявка — что она сильнее всех.
— Только не я.
— Как зовут твоего педагога?
— Я не знаю его фамилии.
— Надо было записать. Сделали бы, что в наших силах. Как-никак педагогический журнал, прекрасное начинание. Уж если мы даем манекенщицам на ужины, а парикмахерам на обеды по случаю их краевых съездов, отчего не поддержать педагогический журнал? Узнай, как зовут редактора. Он подал прошение?
— Не знаю.
— Справься в отделе просвещения. Там наверняка знают его фамилию. Если не подал прошение, пускай подаст.
— Извините, дорогой дядюшка, я из принципа не хотел вас беспокоить.
— Разыщи его. Педагогический журнал — нужная вещь.
Отчего вдруг сердцу Петровича оказался милым журнал по вопросам воспитания? Расстроило падение всеобщей нравственности — в любви и вообще, расстроило попрошайничество, принявшее угрожающие размеры, или Ландик невольно польстил ему, затронув самолюбие, — установить не удалось… Возможно, причиной было и то и другое…
Пан доктор смутился и покраснел. Захотел поддеть своего дорогого дядюшку за его переживания из-за «попрошаек» и в душе немножко посмеяться над ним. Не вышло.
*
Хорошо еще, что все рассказанное было правда. Иначе пришлось бы ему самому основывать педагогический журнал.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Взаимные подозрения
Подали крем, украшенный взбитыми сливками и бисквитами. Желка радостно причмокнула. Лицо хозяйки осветила улыбка.
— Крем сегодня удался. Густой, — проговорила она.
Это была, пожалуй, третья фраза, произнесенная ею с момента появления мужа. Но улыбка ее угасла, едва вспыхнув. А причиной была Маришка, вертевшаяся около Петровича и все время норовившая оказаться за его стулом. Обнося обедающих кремом во второй раз, Маришка начала не с хозяйки, а с Петровича и со своим глупым деревенским «извольте» вместо «пожалуйста» сунула ему хрустальное блюдо под нос, нарочно или случайно задев при этом хозяина плечом.
Этот факт не ускользнул от внимания пани Людмилы. Она больше не сомневалась, что между мужем и горничной какой-то тайный сговор, а может быть, и грех. Пани Людмила нахмурилась и закусила губу. За сегодняшний вечер она уже в третий раз замечала Маришкину фривольность; поначалу она решила молча понаблюдать за ними, но наконец не выдержала и прикрикнула на горничную:
— Будьте осторожнее! Отступайте в сторону, когда подаете! Не наваливайтесь!
А Петрович подумал: «Чего там, прижимайся, милая! Не будь здесь жены и прочих, я потрепал бы тебя по щечке… — И тут же вспомнил о своем намерении дознаться, кто же целуется в его кабинете. — Надо и тебя взять на заметку. Жаться-то жмешься, а доверия не внушаешь». Он поглядел на возмутившуюся жену, на уносящую блюдо горничную — обе были мрачны.
Ему стало чуточку не по себе.
За фруктами пани Людмила невольно выдала себя. Выбрав самый большой красный апельсин, она собственноручно передала его Ландику.
— Смотри, какой красный. Должен быть сладким. Возьми. — И без всякого повода, мимоходом, провела рукой по его приглаженным редким волосам. — Чтобы и ты был таким же румяным, — прибавила она с улыбкой.
— Насекомое приобретает окраску окружающей природы, а я — бумаги, — позволил себе шутливое сравнение Ландик, учтиво целуя руку пани Людмилы.
«Ишь ты, ишь ты — любезничают, — изумился Петрович. — С какой стати она с ним нежничает? Мне апельсина не предложит и не погладит, — с осуждением и какой-то безотчетной завистью подумал он и, надув щеки, выплюнул зернышки в кулак, а затем стряхнул их на тарелку. — Смотри в оба за женой! Это неспроста, тут что-то кроется». И Петрович едва не ляпнул, что, став красным, как апельсин, Ландик подурнеет. Он вовремя спохватился, что подобным замечанием только польстил бы юноше.
Симпатия к Ландику сменилась неприязнью.
«На людях не выказывают своих чувств, это неприлично, и не вскакивают из-за стола, рук за едой не целуют!» Петрович еле сдержался, чтобы не взорваться при постороннем, не то Ландик подумает, будто они с женой не ладят. Ничего, он все еще выскажет Людмиле, все припомнит… Такая возможность скоро представилась. После ужина Желка встала и, пританцовывая, пошла прочь от стола, проговорив в такт:
— Спасибо. На здоровье. — И взяла Ландика за рукав. — Пойдем попробуем, как получится кариока. — И, все так же пританцовывая, удалилась.
Ландик вышел за ней. Родители остались одни.
«Сговорились! — насторожился Петрович. — А вдруг это Желка с Ландиком целовались? Вот недоставало!»
Убрав со стола, Маришка отошла к камину и, стряхивая крошки со скатерти, стрельнула глазами на хозяина. Складывая скатерть и придерживая ее подбородком, она еще раз покосилась в сторону Петровича. Хозяин подмигнул Маришке, притворившись, будто в глаз ему попала соринка. Когда Маришка вышла, пани кивнула ей вслед и нервно заговорила:
— Каждый вечер трется об тебя…
— Кто? — всполошился муж.
— Мариша. — Пани кивнула в сторону кухни.
— Маришка?
— Какая Маришка? Ма-ри-ша.
— А чего она хочет?
— Тебе лучше знать. Все время задевает тебя.
— Не замечал. А зачем?
— Не прикидывайся простачком! Я наблюдаю это уже несколько дней.
— Несколько дней?
— Она стала вести себя нагло.
— Она просто неловкая.
— Нет, дерзкая. И, видимо, не без оснований. Я не собираюсь с ней соперничать. А ты совсем стыд потерял, не осадишь ее.
— Уверяю тебя, я ничего не заметил, если она и задела когда меня, то случайно.
— Хорошенькая случайность! Повторяется каждый вечер.
— Неловкая она! А ты думаешь, умышленно?
— Убеждена!
— По-твоему, она со мной кокетничает?
— Нет, ты с ней.
— На глазах у тебя? В таком случае неловок я, — попробовал отшутиться Петрович и добавил серьезно: — Научи ее подавать и не устраивай сцен. В чем дело? Что навело тебя на подобные мысли?
«Неужели она видела, как я держал Маришку за коленки? — мелькнуло у Петровича подозрение. — Не может быть. Если б видела, мне давно уже досталось бы».
— Что навело меня?.. Свидетели.
Это его испугало.
— Свидетели?..
«Проболталась сама Маришка? Но иначе она не терлась бы об меня, не перемигивалась!»
— Какие свидетели?
— Беспристрастные.
— Кто же?
— Неважно. Достаточно того, что они есть.
— Ты меня разыгрываешь! Покажи мне этого свидетеля!
— Ты и так видишь его ежедневно, а я ежедневно выслушиваю.
У Петровича заныло под ложечкой. «Кто бы это мог быть? Шофер? Кухарка? Не иначе, Маришка похвасталась. Будь осторожен, — предостерег он себя, но затем ободрил: — И смел».
— Если веришь свидетелям, прогони прислугу, потому что меня ты прогнать не можешь, а если веришь мне — прогони свидетелей.
— Тебе я не верю.
— Прискорбно. Ты полагаешься на каких-то негодяев и обманщиков. Должен тебе сказать — мне это хорошо известно как адвокату, — есть целые деревни, особенно те, куда проник коммунизм, где на все найдутся свидетели. Там у них даже существуют свои биржи, обычно на площади или перед костелом. Свидетелей покупают, как акции, одних — дороже, других — дешевле, в зависимости от убедительности внешнего вида. Из ненависти к буржуям и капиталу они готовы свидетельствовать что угодно.
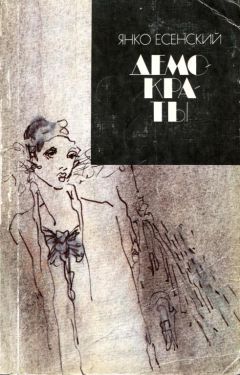

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


