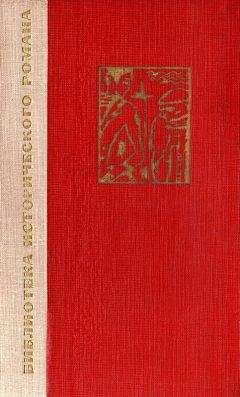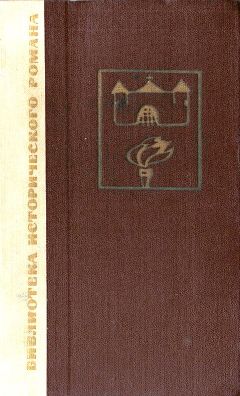По неизвестной причине первым из святых несли Иоанна Крестителя. Судя по его виду, этот предшественник Иисуса Христа был не в большом почете у народа; правда, ноги у него были тонкие, как у девушки, и лицо аскетическое, но тащили Крестителя на старых деревянных носилках, и он едва виднелся за головами мальчишек, шедших впереди с незажженными бумажными фонарями и исподтишка пинавших друг друга.
— Несчастный! — прошептал философ Тасио, наблюдавший за процессией. — Не помогло тебе то, что ты был провозвестником мессии и сам Иисус склонялся пред тобой! Ни к чему твоя великая вера, суровая жизнь, смерть за правду и твои обличения: все это забывается людьми, — ныне ценят лишь собственные заслуги! Лучше читать плохие проповеди в церквах, чем быть дивным гласом вопиющего в пустыне: этому тебя учат Филиппины. Если бы ты ел индейку вместо акрид, если бы одевался в шелка, а не в шкуры, если бы ты вступил в какой-нибудь орден…
Тут старец на миг умолк, — показался святой Франциск.
— Ну, разве я не говорил? — снова зашептал он, саркастически улыбаясь. — Этот вот едет в паланкине и, господи боже, в каком паланкине! Сколько вокруг огней и стеклянных фонарей! Никогда еще я не видел тебя, окруженного таким блеском, Джованни Бернардоне![135] А что за музыка! Совсем иное пели твои духовные чада после твоей смерти! Однако, досточтимый, смиренный основоположник, если ты сейчас воскреснешь, то увидишь лишь выродившихся Илий Кортонских[136], и если потомки твоих последователей узнают тебя, ты будешь брошен в тюрьму и, быть может, разделишь судьбу Цезаря де Спиры.
За музыкантами плыла хоругвь с изображением этого же святого, но в виде шестикрылого серафима; ее несли братья терциарии, одетые в рясы из гингона и громкими жалобными голосами читавшие молитвы.
Следующей почему-то появилась великолепная статуя святой Марии Магдалины с роскошными волосами: унизанные перстнями пальцы держат кружевной платок, шелковое платье расшито золотом. Вокруг нее сияли огни и дымился ладан, а в стеклянных слезах, катившихся по щекам, отражались разноцветные бенгальские огни, которые придавали шествию фантастический вид. Казалось, святая блудница плачет то зелеными, то красными, то голубыми слезами. Бенгальский огонь начинали зажигать в домах лишь тогда, когда мимо проносили святого Франциска. Иоанн Креститель не удостаивался таких почестей, торопился поскорей пройти, устыженный тем, что он один одет в шкуры среди стольких святых, сверкающих золотом и драгоценными камнями.
— Вот несут нашу святую! — сказала дочь префекта своим гостям. — Для того, чтобы самой попасть на небо, я одолжила ей свои кольца.
Люди с фонарями остановились у помоста, чтобы послушать чтение поэмы, святые сделали то же самое; они или те, кто их тащил, захотели послушать стихи. Державшие Иоанна Предтечу присели на корточки, устав стоять, и решили опустить святого на землю.
— Попадет нам от альгуасила, — заметил один.
— Э, в ризнице-то святой небось и вовсе в углу под паутиной сидит!
И Иоанн Предтеча, очутившись на земле, стал как бы одним из местных жителей.
Вместе с Магдалиной показалась вереница женщин. Первыми тут шли не дети, как в процессии мужчин, а старухи. Незамужние девицы замыкали шествие, в самом конце которого двигалась повозка пресвятой девы, а за ней ехал священник под балдахином. Такой обычай ввел отец Дамасо, говоривший: «Пречистой деве по вкусу молодухи, а не старухи». Как ни досадовали многие старые святоши, вкусы святой девы не изменялись.
Святой Диего следовал за Магдалиной, хотя, казалось, это его не очень радовало, — с самого утра, когда ему пришлось идти вслед за святым Франциском, он все хмурился. Его повозку тащили шесть сестер из ордена терциариев, то ли по обету, то ли ради исцеления — неизвестно; факт тот, что они его тащили, и весьма усердно. Святой Диего также остановился у помоста, с которого должны были его приветствовать. Однако пришлось подождать повозку приснодевы, впереди которой шли люди, одетые пугалами и наводившие страх на детей: повсюду слышался плач и писк несмышленых младенцев. Но вот, среди темной массы сутан, капюшонов, веревок и камилавок, под монотонные, гнусавые песнопения, появились, словно бутоны белого жасмина на фоне старого тряпья, двенадцать девочек, одетых в белое, с завитыми волосами, в венках из цветов; их глазки блестели ярче ожерелий. Они казались маленькими феями света в плену у призраков. Девочки шли, держась за две широкие синие ленты, привязанные к повозке святой девы, и напоминали голубков, которые везут колесницу Весны.
Вот уже все святые, тесно прижавшись друг к другу приготовились слушать стихи. Люди уставились на полураскрытый занавес, и наконец возглас восхищения «а-а-а!» вырвался из всех уст.
Зрелище стоило того: на помосте появился мальчик с крылышками. На нем были дорожные ботфорты, перевязь, пояс и шляпа с перьями.
— Это сеньор старший алькальд! — крикнул кто-то, но небесное создание начало бойко декламировать стихи и ничуть не обиделось за сравнение.
Стоит ли здесь давать перевод того, что читала по-латыни, по-тагальски и по-испански — и все одни стихи — эта бедная жертва местного префекта? Наши читатели уже насладились проповедью отца Дамасо сегодняшним утром, и мы не хотим баловать их столькими чудесами сразу. Кроме того, францисканец, пожалуй, станет коситься на нас, если мы найдем ему соперника, а этого-то мы как раз и не хотим, ведь, по счастью, мы люди тихие, мирные.
Затем процессия отправилась дальше: святой Иоанн последовал своим тяжким путем.
Когда мадонна поравнялась с домом капитана Тьяго, до нее донеслось оттуда ангельское пение. Нежный, мелодичный, скорбный голос, словно рыдая, пел «Аве Мария» Гуно, сливаясь со звуками фортепьяно. Музыка в процессии умолкла, бормотание прекратилось, и даже сам отец Сальви остановился. Дивный голос исторгал слезы; в нем звучало не ликование, а мольба, жалоба.
Ибарра услышал этот голос через окно, у которого стоял; смятение и тоска охватили его душу. Он понял, как страдает девушка и что хочет она выразить в песне, но побоялся задать себе вопрос о причине ее скорби.
Генерал-губернатор застал его погруженным в мрачное раздумье.
— Вы составите мне компанию за столом, там поговорим об этих пропавших мальчиках, — сказал он Ибарре.
— Уж не из-за меня ли она страдает? — прошептал юноша, глядя невидящими глазами на его превосходительство и машинально следуя за ним.
Почему заперты окна в доме альфереса? Куда скрылась во время прохождения процессии скуластая физиономия и фланелевая рубаха жандармской Медузы, то бишь Музы? Неужели донья Консоласьон поняла, как уродлив ее лоб со вздутыми венами, по которым, казалось, течет не кровь, а уксус и желчь; поняла, как отвратительны ее синие губы, облепленные крошками табака, и ее злобный взгляд? Может быть, в порыве великодушия она решила не портить своим нежеланным появлением всеобщее веселье?
Ничуть не бывало! По ее мнению, великодушные порывы существовали только в золотом веке.
В ее доме всегда уныние, потому что народ веселится, как говорила Синанг — ни фонарей, ни флагов. Если бы перед дверью не расхаживал привратник, можно было бы подумать, что дом необитаем.
Слабый свет разливается по неубранному залу, с трудом проникая снаружи сквозь грязные раковины[137], затянутые паутиной и инкрустированные пылью. Хозяйка дома, не изменяя своей привычке сидеть сложа руки, дремлет в широком кресле. Одета она, как обычно, то есть плохо и очень неряшливо: на голове платок, из-под которого выбиваются прядки жидких, спутанных волос; голубая фланелевая рубашка надета поверх нижней, которая была когда-то белой, а выцветшая юбка натянута на плоские тощие бедра. Одна нога, закинутая на другую, подрагивает. Изо рта вырываются клубы дыма: с усталым видом она время от времени пускает их в пространство, куда устремляется ее взор, когда она открывает глаза. Если бы в эту минуту супругу альфереса увидел дон Франсиско де Каньямаке[138], он принял бы ее за деревенского касика[139] или за манкукулям и описал бы затем сие открытие цветистым языком торгаша, изобретенным им для своего личного пользования.
В то утро сеньоре не довелось слушать мессу, — не потому, что она не желала этого, напротив, ей хотелось показаться на людях и послушать проповедь, но ее не пустил супруг. Запрещение сопровождалось, как обычно, крепкими ругательствами, проклятиями и угрозой прибить. Альферес понимал, что его половина одевается людям на потеху, что от нее, как говорят тут, за милю разит «солдатской девкой» и что ее вовсе не следует показывать представителям высшей власти или чужеземцам.
Но она толковала это иначе. Ей было доподлинно известно, что она красива, привлекательна, что поступь у нее царственная и одевается она куда лучше и роскошнее, чем сама Мария-Клара, которая носит скромные платья, и в сравнение не идущие с ее пышными юбками. Альфересу приходилось осаживать ее: «Или ты заткнешься, или вылетишь кубарем к… своим сородичам!»