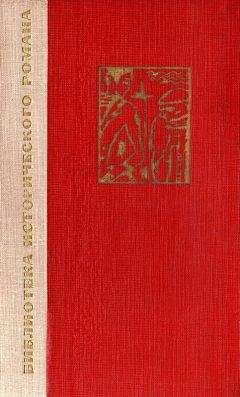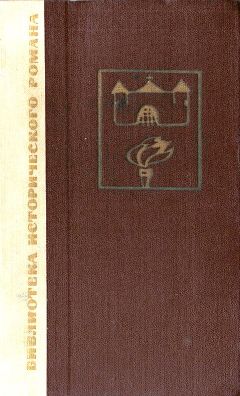Но она толковала это иначе. Ей было доподлинно известно, что она красива, привлекательна, что поступь у нее царственная и одевается она куда лучше и роскошнее, чем сама Мария-Клара, которая носит скромные платья, и в сравнение не идущие с ее пышными юбками. Альфересу приходилось осаживать ее: «Или ты заткнешься, или вылетишь кубарем к… своим сородичам!»
Донья Консоласьон не хотела вылетать кубарем к своим сородичам, но затаила мысль о мести.
Мрачная физиономия этой дамы никогда и никому не внушала доверия, даже если она подрумянивалась, но нынешним утром сеньора просто приводила всех в трепет, особенно тех, кто видел, как она мечется по дому, не говоря ни слова, будто замышляя что-то страшное, подлое. Взгляд у нее, как у змеи, которую прижали к земле и вот-вот придавят: холодный, сверкающий, пронзительный и в то же время какой-то липкий, злобный и жестокий.
Достаточно малейшего промаха, самого незначительного шума, чтобы она разразилась площадной бранью, оскорбляющей душу. Однако отвечать надо полным молчанием: оправдываться — значит совершить новое преступление.
Так прошел день. Не видя никого, кто осмелился бы ей перечить — муж был приглашен на праздник, — она исходила желчью: казалось, все клеточки ее организма наэлектризованы и каждую минуту можно было ждать взрыва, дикой вспышки. Все перед ней склонялись, как колосья под ветром, предвещающим бурю; она не встречала сопротивления, не могла найти никакой зацепки или неполадки, чтобы сорвать злость; слуги и солдаты ходили вокруг нее на цыпочках.
Чтобы не слышать праздничного ликования, она распорядилась закрыть окна и приказала привратнику никого не впускать. Словно боясь, что голова ее может лопнуть, она повязалась платком и, хотя солнце еще сияло вовсю, велела зажечь лампы.
Как мы знаем, Сиса была арестована за нарушение общественного порядка и доставлена в тюрьму. Альферес в ту пору отсутствовал, и несчастная провела ночь на скамье, глядя перед собой невидящими глазами. На следующее утро альферес заметил арестантку. Побоявшись выпустить ее в праздничные дни, чтобы не испортить торжества столь неприятным зрелищем, он приказал солдатам охранять ее, обращаться с ней помягче и давать есть. Так провела безумная два дня.
В этот вечер, то ли потому, что из находившегося по соседству дома капитана Тьяго до нее донеслось грустное пение Марии-Клары, то ли какие-то другие мелодии напомнили ей песни ее молодости, — Сиса тоже начала напевать нежным, печальным голосом кундиманы. Гражданские гвардейцы слушали ее молча: эти песни воскрешали в них давние воспоминания, память о тех временах, когда они еще были порядочными людьми.
Донья Консоласьон, томившаяся от скуки, тоже услышала пение и спросила, кто поет.
— Пусть сейчас же поднимется ко мне! — распорядилась она, немного подумав. Нечто вроде улыбки промелькнуло на ее сухих губах.
Привели Сису. Она вошла без всякого смущения, не выказывая ни удивления, ни страха: казалось, она не видит перед собой сеньоры. Это задело тщеславие жандармской Музы, которой нравилось внушать почтение и страх.
Супруга альфереса кашлянула, сделала знак солдатам, чтобы они удалились, и, снимая с гвоздя хлыст своего мужа, мрачно сказала сумасшедшей:
— Ну-ка, магкантур икау![140]
Сиса, конечно, не поняла ее, и подобное невежество несколько умерило гнев сеньоры.
Одним из восхитительных качеств этой дамы было стремление забыть тагальский язык или по крайней мере делать вид, будто она его не знает; варварски коверкая слова, она, по ее мнению, походила на настоящую «орофейку»[141]. Что и говорить, этого сходства она могла достигнуть, только искажая тагальский, ибо испанский язык вовсе не давался ей — ни грамматика, ни произношение. Тщетно старался супруг, пуская в ход стулья и башмаки, научить ее хоть чему-нибудь! Одно из слов, которое доставило ей куда больше мучений, чем Шамполиону[142] иероглифы, было слово «Филиппины».
Говорили, что на следующий день после свадьбы, беседуя с мужем, который был тогда лишь капралом, она сказала «Пилипины». Капрал счел своим долгом поправить жену и промолвил, наградив ее щелчком: «Надо говорить Филиппины, слышишь? Не будь дурой. Разве не знаешь, что название твоей ср… страны идет от имени Фелипе?» Супруга, мечтавшая о радостях медового месяца, повиновалась и произнесла «Фелепины». Капрал расценил это как некоторый сдвиг и, добавив ей еще пару щелчков, снова потребовал: «Ну-ка, ты что, не можешь произнести слово «Фелипе»? Прибавь «ны», по-латыни это означает «острова индейцев», и у тебя получится название твоей страны».
Консоласьон, — тогда еще простая прачка, — потирая одну, а может, и две шишки на голове, повторяла, уже теряя терпение:
— Фе…липе, Фелипе…ны, Фелипены, так годится?
Капрал обомлел. Почему же вышло «Фелипены» вместо «Филиппины»? Одно из двух: либо надо говорить «Фелипены», либо «Фелипи», а не «Фелипе»?..
В тот день он предпочел промолчать, оставил в покое жену и пошел рыться в книгах. Тут его изумление достигло предела, он протер глаза: «Вот так штука!» Во всех книгах, которые он с усердием разбирал по складам, стояло: «Филиппины». Значит, оба не правы: и он и жена.
— Как же так? — бормотал он. — Разве история может врать? Ведь в этой книжке говорится, что Алонсо Сааведра[143] дал это имя стране в честь инфанта дона Фелипе? Почему же испортили его имя? Неужто этот Алонсо Сааведра был туземцем?..
Он обратился со своими сомнениями к сержанту Гомесу, который в юности собирался стать священником. Тот, не удостоив его взглядом, выпустил изо рта струйку дыма и ответил с величайшей важностью:
— В старые времена говорили не Фелипе, а Филипи; мы же теперь офранцузились и не можем выносить двух «и» подряд. Потому образованные люди, — прежде всего в Мадриде, — ты не был в Мадриде, — образованные люди, повторяю, уже начали говорить так: «менистр, везит». Это называется идти в ногу с современностью.
Бедный капрал не бывал в Мадриде, а потому не знал этих тонкостей. Чему только не научишься в Мадриде!
— Так, значит, теперь надо говорить…
— По-старинному, приятель! Этой стране далеко еще до настоящей культуры; по-старинному: Филиппины! — ответил Гомес с презрительной гримасой.
Если капрал был плохим филологом, он был зато хорошим мужем: то, что узнавал сам, тотчас вдалбливал своей жене, и обучение продолжалось.
— Консола, как ты зовешь свою ср… страну?
— Как же ее звать? Как ты учил: «Фелифены».
— Я запущу в тебя стулом, дура! Вчера ты произносила куда лучше, по-современному, но теперь надо произносить по-старинному! Фели… то есть Филиппины!
— Ишь что выдумал! Разве я старуха?
— Все равно! Говори Филиппины!
— А вот и не хочу по-старинному! Я тебе не развалина какая-нибудь… и тридцати годов не минуло, — отвечала она, засучивая рукава, словно готовясь к бою.
— Говори, шлюха, или я тресну тебя стулом!
Консоласьон поняла серьезность его намерений и, одумавшись, забормотала, тяжело дыша:
— Фели… Феле… Филе…
— Бум! Трах-тарарах! Грохот не дал ей закончить слово.
И урок завершился побоями, царапинами, пощечинами. Капрал схватил ее за волосы, она его — за бороду и за кое-что другое. Кусаться она не могла: все зубы шатались. Капрал издал вопль, отпустил ее, потом попросил прощения. По щеке у него струилась кровь, один глаз побагровел. У нее перекрутилась рубаха, некоторые выпуклости тела вышли из своих укрытий, но слово «Филиппины» так и не вышло.
Подобные происшествия случались всякий раз, когда речь заходила о языке. Капрал, наблюдая лингвистические успехи супруги, с болью в сердце пришел к выводу, что лет через десять она вовсе разучится говорить. Действительно, так и случилось. Когда они поженились, она еще понимала по-тагальски и старалась говорить по-испански. Но к тому времени, о котором мы повествуем, она уже почти не говорила ни на одном из этих языков, зато так пристрастилась изъясняться жестами, причем самыми резкими и размашистыми, что дала бы сто очков вперед изобретателю волапюка.
Итак, Сиса, к счастью, не поняла ее слов. Насупленные брови хозяйки расправились, довольная улыбка озарила лицо — нет сомнения, раз ее не понимают по-тагальски, значит, она уже «орофейка».
— Денщик, скажи ей по-тагальски, чтобы пела! Девка меня не понимает, она не знает испанского языка!
Безумная поняла приказ денщика и запела «Песню ночи».
Донья Консоласьон сперва слушала, ухмыляясь, но постепенно усмешка сходила с ее губ, она стала слушать внимательней, сделалась серьезной и даже задумчивой. Голос, слова песни и само пение взволновали ее: быть может, это выжженное, сухое сердце жаждало дождя. Ей были понятны слова кундимана: «Грусть, холод и влага спускаются с неба, обернутые покрывалом ночи». Ей казалось, что все это спускается на ее сердце. «Цветок, что днем расцветал, красивый и нежный, ждущий привета, преисполненный гордости, к ночи блекнет и вянет от тоски и разочарования. Он устремляет к небу сморщенные лепестки, прося немного тени, чтобы навеки скрыться, уберечься от насмешек света, который любовался его цветеньем пышным, не замечая его пустой гордыни; он просит капельку росы, чтобы она слезой с него скатилась. Ночная птица покидает свою обитель, дупло в старом стволе, и взмахи крыльев нарушают тихую дремоту леса…»