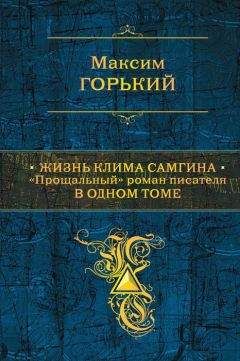Самгин слышал ее крики, но эта женщина, в широком, фантастическом балахоне, уже не существовала для него в комнате, и голос ее доходил издали, точно она говорила по телефону. Он соображал:
«Вот как говорит Марина про меня...»
Он слышал: террористы убили в Петербурге полковника Мина, укротителя Московского восстания, в Интерлакене стреляли в какого-то немца, приняв его за министра Дурново, военно-полевой суд не сокращает количества революционных выступлений анархистов, – женщина в желтом неутомимо и назойливо кричала, – но все, о чем кричала она, произошло в прошлом, при другом Самгине. Тот, вероятно, отнесся бы ко всем этим фактам иначе, а вот этот окончательно не мог думать ни о чем, кроме себя и Марины.
«Невольный зритель? Это – верно, я сам говорил себе это».
Лишь на минуту он вспомнил царя, оловянно серую фигурку маленького человечка, с голубыми глазами и безразлично ласковой улыбкой.
«Равнодушен и ненавидит... Несоединимо. Вернее – презирает. А я – ненавижу или презираю?»
Он невольно усмехнулся и вызвал у Лидии взрыв негодования.
– Неужели тебя все это только смешит? Но – подумай! Стоять выше всех в стране, выше всех! – кричала она, испуганно расширив больные глаза. – Двуглавый орел, ведь это – священный символ нечеловеческой власти...
Самгин не заметил, когда и почему она снова заговорила о царе.
– Мы все – двуглавые, – сказал он, вставая. – Зотова, ты, я...
– Что ты хочешь сказать? – спросила Лидия и тоже встала.
Вслушиваясь в свои слова, он проговорил, надеясь обидеть Лидию:
– Царь, вероятно, устал от этой возни и презирает всех...
– Он? Помазанник божий и – презрение к людям? – возмущенно вскричала Лидия. – Опомнись! Так может думать только атеист, анархист! Впрочем – ты таков и есть по натуре.
Она безнадежно покачала головой, затем, когда Самгин пожимал ее руку, спросила:
– Здесь у всех ужасно потные руки, – ты заметил? «Дура. Бесплодная смоковница, – равнодушно думал Самгин, как бы делая надписи. – Насколько Марина умнее, интереснее ее...»
И, поставив рядом с Мариной голубовато-серую фигурку царя, усмехнулся.
Город беспокоился, готовясь к выборам в Думу, по улицам ходили и ездили озабоченные, нахмуренные люди, на заборах пестрели партийные воззвания, члены «Союза русского народа» срывали их, заклеивали своими.
Все это текло мимо Самгина, но было неловко, неудобно стоять в стороне, и раза два-три он посетил митинги местных политиков. Все, что слышал он, все речи ораторов были знакомы ему; он отметил, что левые говорят громко, но слова их стали тусклыми, и чувствовалось, что говорят ораторы слишком напряженно, как бы из последних сил. Он признал, что самое дельное было сказано в городской думе, на собрании кадетской партии, членом ее местного комитета – бывшим поверенным по делам Марины.
Опираясь брюшком о край стола, покрытого зеленым сукном, играя тоненькой золотой цепочкой часов, а пальцами другой руки как бы соля воздух, желтолицый человечек звонко чеканил искусно округленные фразы; в синеватых белках его вспыхивали угольки черных зрачков, и издали казалось, что круглое лицо его обижено, озлоблено. Слушали его внимательно, молча, и молчание было такое почтительно скучное, каким бывает оно на торжественных заседаниях по поводу годовщины или десятилетия со дня смерти высокоуважаемых общественных деятелей.
Говорил оратор о том, что война поколебала международное значение России, заставила ее подписать невыгодные, даже постыдные условия мира и тяжелый для торговли хлебом договор с Германией. Революция нанесла огромные убытки хозяйству страны, но этой дорогой ценой она все-таки ограничила самодержавие. Спокойная работа Государственной думы должна постепенно расширять права, завоеванные народом, европеизировать и демократизировать Россию.
Он замолчал, поднял к губам стакан воды, но, сделав правой рукой такое движение, как будто хотел окунуть в воду палец, – поставил стакан на место и продолжал более напряженно, даже как бы сердито, но и безнадежно:
– Меньшевики, социалисты-реалисты, поняли, что революция сама по себе не способна творить, она только разрушает, уничтожает препятствия к назревшей социальной реформе. Они поняли, что культура невозможна вне сотрудничества классов. Социалисты-утописты с их мистической верой в силу рабочего класса – разбиты, сошли со сцены истории. Все понимают, что страна нуждается в спокойной, будничной работе в областях политики и культуры. В конце концов – всем необходимо отдохнуть от жестоких потрясений пережитой бури. Пред нами – грандиозная задача: поставить на ноги многомиллионное крестьянство. И – еще раз: эволюция невозможна без сотрудничества классов, – эта истина утверждается всей историей культурного развития Европы, и отрицать эту истину могут только люди, совершенно лишенные чувства ответственности пред историей...
Для того чтоб согласиться с этими мыслями, Самгину не нужно было особенно утруждать себя. Мысли эти давно сами собою пришли к нему и жили в нем, не требуя оформления словами. Самгина возмутил оратор, – он грубо обнажил и обесцветил эти мысли, «выработанные разумом истории».
Самгин почувствовал необходимость освежить и углубить доводы разума истории, подкрепить их от себя, материалом своего, личного опыта. Он пережил слишком много, и хотя его разум сильно устал «регистрировать факты», «системы фраз», но не утратил эту уже механическую, назойливую и бесплодную привычку. Бесплодность накопления опыта тяготила и смущала его. Он не хотел сознаться, что усвоил скептическое отношение Марины к разуму, но он уже чувствовал, что ее речи действуют на него убедительнее книг. И, наконец, бывали моменты, когда Самгин с неприятной ясностью сознавал, что хотя лицо «текущего момента» густо покрыто и покрывается пылью успокоительных слов, но лицо это вставало пред ним красным и свирепым, точно лицо дворника Марины.
Он вспомнил брата: недавно в одном из толстых журналов была напечатана весьма хвалебная рецензия о книге Дмитрия по этнографии Северного края.
«Мне тоже надо сделать выводы из моих наблюдений», – решил он и в свободное время начал перечитывать свои старые записки. Свободного времени было достаточно, хотя дела Марины постепенно расширялись, и почти всегда это были странно однообразные дела: умирали какие-то вдовы, старые девы, бездетные торговцы, отказывая Марине свое, иногда солидное, имущество.
– Дальние родственники супруга моего, – объясняла она.
Росла клиентура, к Самгину являлись из уездов и даже из соседней губернии почтительные бородатые купцы.
– Зотиха, Марина Петровна, указала нам, – говорили они, и чувствовалось, что для этих людей Марина – большой человек. Он объяснял это тем, что захолустные, полудикие люди ценят ее деловитый ум, ее знание жизни.
Зимними вечерами, в теплой тишине комнаты, он, покуривая, сидел за столом и не спеша заносил на бумагу пережитое и прочитанное – материал своей будущей книги. Сначала он озаглавил ее: «Русская жизнь и литература в их отношении к разуму», но этот титул показался ему слишком тяжелым, он заменил его другим:
«Искусство и интеллект»; потом, сообразив, что это слишком широкая тема, приписал к слову «искусство» – «русское» и, наконец, еще более ограничил тему: «Гоголь, Достоевский, Толстой в их отношении к разуму». После этого он стал перечитывать трех авторов с карандашом в руке, и это было очень приятно, очень успокаивало и как бы поднимало над текущей действительностью куда-то по косой линии.
Гоголь и Достоевский давали весьма обильное количество фактов, химически сродных основной черте характера Самгина, – он это хорошо чувствовал, и это тоже было приятно. Уродливость бьпа и капризная разнузданность психики объясняли Самгину его раздор с действительностью, а мучительные поиски героями Достоевского непоколебимой истины и внутренней свободы, снова приподнимая его, выводили в сторону из толпы обыкновенных людей, сближая его с беспокойными героями Достоевского.
Но нередко он бросал карандаш на стол, говоря себе:
«Я – не таков, как эти люди, более здоров, чем они, я отношусь к жизни спокойнее».
Однако действительность, законно непослушная теориям, которые пытались утихомирить ее, осаждаясь на ее поверхности густой пылью слов, – действительность продолжала толкать и тревожить его.
В конце зимы он поехал в Москву, выиграл в судебной палате процесс, довольный собою отправился обедать в гостиницу и, сидя там, вспомнил, что не прошло еще двух лет с того дня, когда он сидел в этом же зале с Лютовым и Алиной, слушая, как Шаляпин поет «Дубинушку». И еще раз показалось невероятным, что такое множество событий и впечатлений уложилось в отрезок времени – столь ничтожный.
«И в бездонном мешке времени кружится земной шар», – вспомнил он недавно прочитанную фразу и подумал, что к Достоевскому и Гоголю следует присоединить Леонида Андреева, Сологуба. А затем, просматривая карту кушаний, прислушиваясь к шуму голосов, подумал о том, что, вероятно, нигде не едят так радостно и шумно, как в Москве. Особенно бесцеремонно шумели за большим столом у стены, налево от него, – там сидело семеро, и один из них, высокий, тонкий, с маленькой головой, с реденькими усами на красном лице, тенористо и задорно врезывал в густой гул саркастические фразы: