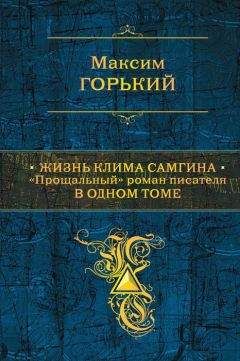– Я – купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат, в своем классе – белая ворона, и я тебе прямо скажу: не чувствуя внутренней связи со своей средой, я иногда жалею... даже болею этим... Вот оно что! Бывает, что думаешь: лучше быть повешенным, чем взвешенным в пустоте. Но – причаститься своей среде – не могу, может быть, потому, что сил нет, недостаточно зоологичен. Вот на-днях Четвериков говорил, что в рабочих союзах прячутся террористы, анархисты и всякие чудовища и что хозяева должны принять все меры к роспуску союзов. Разумеется, он – хозяин и дело обязывает его бороться против рабочих, но – видел бы ты, какая отвратительная рожа была у него, когда он говорил это! И вообще, брат, они так настроены, что если возьмут власть в свои руки...
Лицо Владимира Лютова побурело, глаза, пытаясь остановиться, дрожали, он слепо тыкал вилкой в тарелку, ловя скользкий гриб и возбуждая у Самгина тяжелое чувство неловкости. Никогда еще Самгин не слышал, не чувствовал, чтоб этот человек говорил так серьезно, без фокусов, без неприятных вывертов. Самгин молча налил еще водки, а Лютов, сорвав салфетку с шеи, продолжал:
– Тебе мое... самочувствие едва ли понятно, ты забронирован идеей, конспиративной работой, живешь, так сказать, на высоте, в башне, неприступен. А я давно уже привык думать о себе как о человеке – ни к чему. Революция окончательно убедила меня в этом. Алина, Макаров и тысячи таких же – тоже всё люди ни к чему и никуда, – странное племя: неплохое, но – ненужное. Беспочвенные люди. Есть даже и революционеры, такие, например, как Иноков, – ты его знаешь. Он может разрушить дом, церковь, но не способен построить и курятника. А разрушать имеет право только тот, кто знает, как надобно строить, и умеет построить.
Самгин чувствовал, что эти неожиданные речи возмущают его, – он выпил еще рюмку и сказал:
– Так говорили, во главе с Некрасовым, кающиеся дворяне в семидесятых годах. Именно Некрасов подсказал им эти жалобы, и они были, в сущности, изложением его стихов прозой.
Снова вошел официант, и, заметив, что острый взгляд Васи направлен на него, Самгин почувствовал желание сказать нечто резкое; он сказал:
– Нельзя делать историю только потому, что ничего иного не умеешь делать.
– Именно, – согласился Лютов, а Самгин понял, что сказано им не то, что он повторил слова Степана Кутузова. Но все-таки продолжал:
– У нас многие занимаются деланием от скуки, от нечего делать.
– Мысль Толстого, – заметил Лютов, согласно кивнув головой, катая шарик хлеба.
Самгин замолчал, ожидая, когда уйдет официант, потом, с чувством озлобления на Лютова и на себя, заговорил, несвойственно своей манере, ворчливо, с трудом:
– Вообще интеллигенция не делает революций, даже когда она психически деклассирована. Интеллигент – Не революционер, а реформатор в науке, искусстве, религии. И в политике, конечно. Бессмысленно и бесполезно насиловать себя, искусственно настраивать на героический лад...
– Не понимаю, – сказал Лютов, глядя в тарелку супа. Самгин тоже не совсем ясно понимал – с какой целью он говорит? Но говорил:
– Ты смотришь на революцию как на твой личный вопрос, – вопрос интеллигента...
– Я? – удивился Лютов. – Откуда ты вывел это?
– Из всего сказанного тобой.
– Мне кажется, что ты не меня, а себя убеждаешь в чем-то, – негромко и задумчиво сказал Лютов и спросил:
– Ты – большевик или...?
– Ах, оставь, – сердито откликнулся Самгин. Минуту, две оба молчали, неподвижно сидя друг против друга. Самгин курил, глядя в окно, там блестело шелковое небо, луна освещала беломраморные крыши, – очень знакомая картина.
«Он – прав, – думал Самгин, – убеждал я действительно себя».
– Реакция, – пробормотал Лютов. – Ленин, кажется, единственный человек, которого она не смущает...
Он съежился, посерел, стал еще менее похож на себя и вдруг – заиграл, превратился в человека, давно и хорошо знакомого; прихлебывая вино маленькими глотками, бойко заговорил:
– Слышал я, что мухи обладают замечательно острым зрением, а вот стекла от воздуха не могут отличить!
– Что ты зимой о мухах вспомнил? – спросил Самгин, подозрительно взглянув на него.
– Не знаю. А есть мы, оказывается, не хотим. Ну, тогда выпьем!
Выпили. Встряхнув головой, потирая висок пальцем, Лютов вздохнул, усмехнулся.
– Не склеилась у нас беседа, Самгин! А я чего-то ждал. Я, брат, все жду чего-то. Вот, например, попы, – я ведь серьезно жду, что попы что-то скажут. Может быть, они скажут: «Да будет – хуже, но – не так!» Племя – талантливое! Сколько замечательных людей выдвинуло оно в науку, литературу, – Белинские, Чернышевские, Сеченовы...
Но оживление Лютова погасло, он замолчал, согнулся и снова начал катать по тарелке хлебный шарик. Самгин спросил: где Стрешнева?
– Дуняша? Где-то на Волге, поет. Тоже вот Дуняша... не в форме, как говорят о борцах. Ей один нефтяник предложил квартиру, триста рублей в месяц – отвергла! Да, – не в себе женщина. Не нравится ей все. «Шалое, говорит, занятие – петь». В оперетку приглашали – не пошла.
И, глядя в окно, он вздохнул.
– Боюсь – влопается она в какую-нибудь висельную историю. Познакомилась с этим, Иноковым, когда он лежал у нас больной, раненый. Мужчина – ничего, интересный, немножко – топор. Потом тут оказался еще один, – помнишь парня, который геройствовал, когда Туробоева хоронили? Рыбаков...
– Судаков, – поправил Самгин.
– Хорошая у тебя память... Гм... Ну вот, они – приятели ей. Деньжонками она снабжает их, а они ее воспитывают. Анархисты оба.
Лютов вынул часы и, держа их под столом, щелкнул крышкой; Самгин тоже посмотрел на свои часы, тут же думая, что было бы вежливей спросить о времени Лютова.
Простился Лютов очень просто, даже, кажется, грустно, без игры затейливыми словечками.
«Поблек, – думал Самгин, выходя из гостиницы в голубоватый холод площади. – Типичный русский бездельник. О попах – нарочно, для меня выдумал. Маскирует чудачеством свою внутреннюю пустоту. Марина сказала бы: человек бесплодного ума».
От сытости и водки приятно кружилась голова, вкусно морозный воздух требовал глубоких вдыханий и, наполняя легкие острой свежестью, вызывал бодрое чувство. В памяти гудел мотив глупой песенки:
«Дуняша-то! Отвергла. Почему?»
Самгин взял извозчика и поехал в оперетку. Там кассир сказал ему, что все билеты проданы, но есть две свободные ложи и можно получить место.
С высоты второго яруса зал маленького театра показался плоскодонной ямой, а затем стал похож на опрокинутую горизонтально витрину магазина фруктов: в пене стружек рядами лежат апельсины, яблоки, лимоны. Самгин вспомнил, как Туробоев у Омона оправдывал анархиста Равашоля, и спросил сам себя:
«Мог бы я бросить бомбу? Ни в каком случае. И Лютов не способен. Я подозревал в нем что-то... своеобразное. Ничего нет... Кажется – я даже чего-то опасался в этом... выродке». И, почувствовав, что он может громко засмеяться, Самгин признался: «Я – выпил немножко сверх меры».
Над оркестром судорожно изгибался, размахивая коротенькими руками и фалдами фрака, черненький, большеголовый, лысый дирижер, у рампы отчаянно плясали два царя и тощий кривоногий жрец Калхас, похожий на Победоносцева.
«Оффенбах был действительно остроумен, превратив предисловие к «Илиаде» в комедию. Следовало бы обработать в серию легких комедий все наиболее крупные события истории культуры, чтоб люди перестали относиться к своему прошлому подобострастно – как к его превосходительству...»
Думалось очень легко и бойко, но голова кружилась сильнее, должно быть, потому, что теплый воздух был густо напитан духами. Публика бурно рукоплескала, цари и жрец, оскалив зубы, благодарно кланялись в темноту зала плотному телу толпы, она тяжело шевелилась и рычала:
– Браво, браво!
Это было не весело, не смешно, и Самгин поморщился, вспомнив чей-то стих:
Пучина, где гибнет все то, что живет.
«Откуда это?»
Подумав, он вспомнил: из книги немецкого демократа Иоганна Шерра. Именно этот профессор советовал смотреть на всемирную историю как на комедию, но в то же время соглашался с Гёте в том, что:
Быть человеком – значит быть бойцом.
«Чтобы придать комедии оттенки драмы, да? Пьянею», – сообразил Самгин, потирая лоб ладонью. Очень хотелось придумать что-нибудь оригинальное и улыбнуться себе самому, но мешали артисты на сцене. У рампы стояла плечистая, полнотелая дочь царя Приама, дрыгая обнаженной до бедра ногой; приплясывал удивительно легкий, точно пустой, Калхас; они пели:
Смотрите
На Витте,
На графа из Портсмута,
Чей спорт любимый – смута...
«Это – глупо», – решил Самгин, дважды хлопнув ладонями.