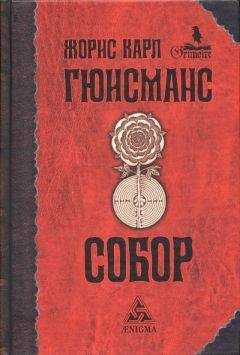«Но этого мало», — думал Дюрталь, внимательно просматривая свой требник. Точно мелкие камни, вправлены в венец молитвослова песнопения служб святым, заполняющие пробелы, довершающие убранство круга.
На первом месте жемчуга и алмазы Пресвятой Девы, ясные драгоценности, голубые сапфиры, розовые шпинели ее антифонов, безупречно прозрачный, непорочный берилл — «Ave maris Stella» [92], бледный, омытый слезами топаз «О quot undis lacrymarum» [93], отмечающий праздник Семи скорбей, и «Stabat», подобный гиацинту цвета подсыхающей крови.
Нанизывались праздники во славу ангелов и святых, гимны, посвященные апостолам, евангелистам, мученикам, в дни Пасхи или в иное время прославляемым, вкупе или особо, исповедникам-святителям и исповедникам простым, девам и святым женам. Все празднования эти различались молитвословиями, особыми гимнами, иногда простодушными, как, например, четверостишие, вытканное Павлом Диаконом в честь рождения святого Иоанна Крестителя.
Остается еще праздник Всех Святых с «Placare Christe» [94] и троекратный набат громовых терцетов «Dies irae», рокочущий в день, установленный для поминовения усопших.
«Каким неистощимым сокровищем поэзии обладает церковь, какими безмерными нивами искусства!» — воскликнул Дюрталь, закрывая книгу. В нем пробудились воспоминания, навеянные чтением молитвослова.
Сколько раз забывал он по вечерам тоску жизни, слушая песнопения в церквах!
Мысленно воскрешая напевы рождественского поста, вспоминал, как случилось ему раз вечером под мелким дождем бродить по набережным.
Гонимый из дому нечистыми видениями, он почувствовал прилив растущего отвращения к своим грехам. И невольно укрылся в Сен-Жерве.
Бедные женщины лежали простертыми в приделе Богородицы. Усталый, в оцепенении, преклонил он колена, с душой, истомленной и дремавшей, бессильной пробудиться. Певчие и отроки хора вместе с двумя-тремя священниками показались в приделе; зажглись свечи, и тонкий белокурый отроческий голос запел в сумерках церкви длинные ответствия «Rorate» [95].
Отягченный унынием, обуреваемый скорбью, Дюрталь ощущал, как раскрывается и до самых недр содрогается его душа, а невинный голос, в юном бестрепетном неведении, почти без всякого смущения изрекал Праведному Судии: «Peccavimus et facti sumus tanquam immundus nos» [96].
И Дюрталь повторял его слова и, устрашенный, твердил их, прибавляя: «О, да, Господи, согрешили мы и уподобились прокаженным!» — А песнь лилась, и тем же невинным отроческим голосом воспользовался Всевышний, чтобы возвестить человеку милосердие и подтвердить прощение, явленное пришествием Сына.
Вечер завершился молитвой о спасении, пропетой по древней мелодии, среди кроткого безмолвия женщин.
Дюрталь вспоминал, как ободренный, возрожденный, избавленный от своих докучных дум вышел он из храма. Дождь все также моросил, но к его удивлению, обратный путь показался ему недолгим. И, напевая пленительную мелодию «Rorate», он усматривал в этом особо благоприятное для себя знамение.
Были и другие вечера… Поминание усопших в Сен-Сюльпис и Сен-Тома-де-Аквин, где после заупокойной вечерни воскресало древнее моление римского служебника: «Languentibus in Purgatorio» [97].
Ни в одной парижской церкви не сохранилось больше этих страниц галликанского молитвослова, и они исполнялись здесь двумя басами без участия хора. Очевидно, любили эту мелодию певчие, обычно такие посредственные, и, хотя пели неискусно, но, по крайней мере, влагали в нее частицу души.
Призыв Мадонны, заклинаемой спасти души чистилища, отражал их жалостную долю, звучал так скорбно и уныло, что, слушая, забывалось окружающее, забывался ужас этой церкви, хоры которой подобны на театральной сцене, окруженной загороженными ваннами-ложами и украшенную люстрами. И чудилось, что на несколько мгновений уносит она куда-то далеко от Парижа, далеко от толпы ханжей и служанок, в тот вечер бывших в храме.
«Ах! Сколько животворного таит в себе церковь для искусства!» — думал Дюрталь, спускаясь по тропинке, ведшей к большому пруду. Вдруг его привлек шум падающего в воду тела.
Выглянув из-за камышей, он увидел расходившиеся большие круги, в одном из которых всплыла крошечная головка с рыбой в зубах. Зверек слегка высунулся над водой, показав тонкое, обросшее шерстью туловище, и невозмутимо уставился на Дюрталя своими черными глазками. Потом мигом переплыл расстояние, отделявшее его от берега и скрылся в траве.
— Это выдра, — догадался он, вспомнив обеденный разговор заезжего викария с посвященным.
Направляясь к другому пруду, натолкнулся на отца Этьена и рассказал ему о своем открытии.
— Быть не может! — воскликнул монах. — Никто никогда не видал здесь выдры. Вы, наверно, приняли за нее речную крысу или еще какого зверя. Мы выслеживаем ее целые годы, но она неуловима.
Дюрталь описал зверя.
— Это она! — решил изумленный гостинник.
Очевидно, выдра пруда расцветилась красками легенды. В однообразной жизни, в одинаковости монастырских дней, она выросла в сказочное существо, в таинственное событие, призванное заполнить пустоту промежутков между часами молитв.
Помолчав, отец Этьен сказал:
— Надо точно указать Брюно место, где вы заметили ее. Он возобновит охоту.
— Но какой вам ущерб, что она поедает вашу рыбу, которой вы все равно не ловите?
— Простите, мы ловим ее и посылаем архиепископу, — ответил монах и прибавил: — да, но странно, однако, что вы встретили зверька.
И Дюрталь подумал: «Когда я уеду, меня, пожалуй, прозовут: господин, который видел выдру!»
Так, беседуя, добрались они до крестообразного пруда.
— Взгляните, — обратил отец внимание Дюрталя на лебедя, который яростно выпрямлялся, шипел и хлопал крыльями.
— Что с ним?
— Он вне себя от белого цвета моей рясы.
— А… Почему?
— Не знаю. Хочет один, быть может, носить здесь белую одежду. Послушников не трогает, но едва лишь увидит отца… Да вот, посмотрите.
И гостинник невозмутимо направился к лебедю.
— Ну, что же! — И, протянув руку рассерженной, вспенивавшей воду птице, стерпел удар клювом.
— Взгляните, — монах показал багровую полоску, которую оставил на коже щипок.
С улыбкой потирая руку, расстался с Дюрталем. И тот подумал: не хотел ли монах покарать себя таким самоистязанием, искупить какую-нибудь оплошность, нечаянный проступок?
Слезы выступили у отца Этьена, до того больно ущипнул его лебедь, — рассуждал Дюрталь. — С какой стати эта радость добровольной пытки?
И ему вспомнилось, как во время оно, один из юных чернецов ошибся в тоне антифона. Сейчас же, по окончании богослужения, он земно поклонился алтарю и распростерся ничком, припав к плите устами. Лежал, пока не повелел ему встать колокольчик приора.
Он сам покарал себя за допущенную небрежность, за рассеянность.
Кто знает, не каялся ли отец Этьен в греховном помысле, когда подставил руку лебедю?
Вечером поделился своим предположением с посвященным.
Но Брюно лишь молча усмехнулся.
Старик покачал головой, когда Дюрталь заговорил с ним о своем близком отъезде.
— Зная ваши страхи, ваше смущение, я дам вам благоразумный совет: немедленно по приезде приблизьтесь к Святой Трапезе.
И, видя, как Дюрталь, не отвечая, поник головой, продолжал:
— Верьте человеку, который изведал этот искус. Возьмите себя в руки под свежим впечатлением траппистского монастыря. Иначе вас загрызут вечные шатанья между стремлением к причастию и сожалением. Вы будете измышлять отговорки, чтобы не исповедаться, постараетесь убедить себя, что в Париже не найдется аббата, который бы понял вас. Но, позвольте, ничего нет более ошибочного. Если вам нужен наперсник искусный и сговорчивый, идите к иезуитам. Если же в священнике для вас важнее всего ревностная душа — отправляйтесь в Сен-Сюльпис.
Вы встретите там священников честных и разумных, сердца доблестные. В Париже, обладающем таким смешанным духовенством, они — сливки местного священства. И это понятно. Они составляют общину, живут в кельях, не обедают в городе. Сюльпицианский устав преграждает путь притязаниям на почести и должности, и у них отрезана возможность из честолюбия превратиться в дурных священников. Знаете вы их?
— Нет, но в разрешении этой задачи я рассчитываю на содействие знакомого аббата, который направил меня в пустынь. Говоря откровенно, этот вопрос не перестает меня тревожить.
И, поднимаясь, чтобы идти к вечерне, подумал: Однако, я все еще не написал ему. По правде, теперь уже поздно. Мой приезд почти совпадет с письмом. Странно, но здесь так занят самим собой, так живешь в своем Я, что дни бегут, и некогда ничем заняться!