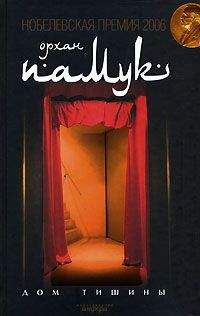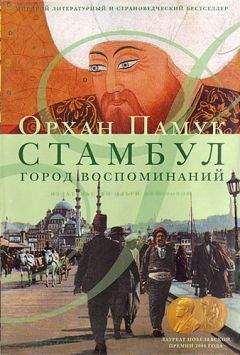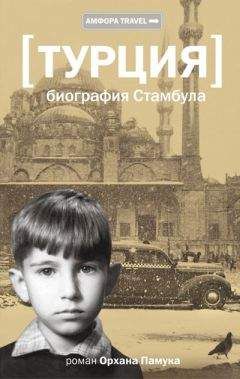Я думал об университетских коридорах, о движении городского транспорта, о рубашках с короткими рукавами, о влажной летней жаре, об обедах по жаре на открытом воздухе, о словах. Из крепко закрытых кранов в доме капает вода, в комнатах пахнет пылью и книгами, а кусочек маргарина с привкусом пластмассы побелел и затвердел в металлическом холодильнике, он, конечно, ждет какого-то неведомого случая. Значит, пустая комната останется пустой! Захотелось выпить и поспать. А потом я подумал: это произошло с самой лучшей из нас. Тихонько вернулся в дом и долго смотрел на ее спящее раненое тело. Подошел Реджеп.
— Отвезите ее в больницу, Фарук-бей! — сказал он.
— Не будем ее будить, — ответил я.
— Не будем?
Пожав плечами, он, переваливаясь с боку на бок, спустился на кухню. А я вышел на солнце и опять сел у курятника, рядом с глупыми курами. Позже пришел Метин, он только что проснулся, но взгляд у него был не сонным, а пытливым. Нильгюн все рассказала! Он и меня заставил рассказать о том, что с ней случилось, но тут же перебил и начал рассказывать сам: о двенадцати тысячах лир. которые у него украли вчера ночью, о том, как сломалась машина, о невероятно сильной, по его словам, грозе. Я спросил его, что он делал так поздно ночью в таком месте, совершенно один. Он на мгновение замолчал, а потом как-то странно махнул рукой. Тогда я спросил:
— У меня была тетрадь. Может быть, я забыл ее в машине. Ты не видел? Потерялась.
— Не видел!
Он спросил меня, как я завел машину, чтобы отвезти ее в ремонт. Когда я сказал, что мы только чуть-чуть подтолкнули ее с Реджепом, как она сразу завелась, он мне не поверил, побежал, спросил Реджепа и, когда тот подтвердил мои слова, стал проклинать свою судьбу, как будто на самом деле сегодня пострадала не Нильгюн, а он. Потом Метин напомнил мне о том, о чем я старался не думать. В полицию кто-нибудь ходил? Я сказал, что никто не ходил, и увидел, как Метин скривился, словно ему противно от нашего бездействия, но потом он вроде бы забыл о нас, и он вспомнил о чем-то, что доставляло ему больше боли. Я вошел в дом и, увидев, что Нильгюн проснулась, совершенно бестолково опять стал говорить ей о больнице и пугать кровоизлиянием, мне даже пришлось напомнить ей о смерти, не произнося самого слова, чувствовал, что она не боится, и хотел, чтобы она испугалась и сказала: да, давай поедем. Но она ничего не сказала.
— Я сейчас не хочу. Может быть, после обеда.
Бабушка к обеду не спускалась, и поэтому за едой я спокойно выпил и сделал вид, что не замечаю угрызений совести, которые Реджеп пытался внушить нам всем. Но когда Метин вновь начал рассказывать о грабителях, я заметил реакцию Реджепа и подумал, что больше всего угрызений совести испытывает он. Казалось, он выглядел несчастным потому, что был виноват, и выглядел виноватым оттого, что был несчастен. Но это было не так. Мы все растерялись, словно оказались где-то на улице, в незнакомом месте, и знали об этом, но где нам нужно быть, куда нам нужно идти — мы не знали. А он, Хасан, как бы находился именно в этом загадочном и неизвестном месте, но при этом мы обвиняли его и вроде бы сочувствовали ему. К концу обеда мне в голову пришла эта неприятная мысль: не назови его Нильгюн «чокнутым фашистом», ничего бы не произошло. Должно быть, я был довольно пьян. А потом, внезапно, я представил такую картину: однажды я читал в газете, что где-то на Босфоре, кажется в Тарабье,[71] один муниципальный автобус свалился поздно ночью в море с пассажирами. Сейчас я словно был в этом автобусе. Мы упали на дно моря, но свет в салоне все еще горел, все в панике смотрели в окна, но нас манила тьма смерти, окутывавшая автобус, как приятная спокойная женщина. И мы ждали ее.
После еды я еще раз сказал Нильгюн про больницу, она ехать отказалась. Я поднялся к себе в комнату, лег на кровать и открыл Эвлию Челеби. Во время чтения я заснул.
Я проснулся ровно через три часа, у меня как-то странно стучало сердце. Я никак не мог подняться и встать с кровати; на меня будто навалился какой-то невидимый слон, прижимавший меня за руки и за ноги к кровати. Казалось, если я захочу, то смогу спокойно закрыть глаза и опять крепко заснуть, но я не поддался соблазнительному сну, полному мечтательных видений, а сделал над собой усилие и встал. На мгновение я застыл, как истукан, посреди комнаты, а потом пробормотал: «Что называется временем? Чего я жду, какого выхода?» Было около пяти, я спустился вниз.
Нильгюн поспала, проснулась, лежала на диване и смотрела на книгу, которую держала в руках.
— Всегда мечтала болеть именно так, — сказала она. — Лежать и спокойно читать какую хочешь книгу.
— Ты ведь не больна, — сказал я. — С тобой все гораздо серьезнее. Вставай, я везу тебя в больницу.
Она не встала. Не обращая внимания на мои слова, она продолжала перечитывать «Отцов и детей» и сказала, что хочет почитать, как затворник, книжный червь, который не любит, когда его бес покоят из-за мелочей. Так я получил очередную возможность впустую проговорить еще некоторое время. На этот раз мне хотелось испугать ее смертью, и я начал употреблять само это слово, но она улыбнулась и сказала, что не думает, что с ней такое случится. — она не чувствует себя такой уж избитой. После этого она опять повернулась к книге, которую держала перед собой, а я удивился, как эти темно-лиловые заплывшие глаза еще могут читать.
Потом я поднялся наверх, бесцельно бродил по комнатам и снова искал свою тетрадь, но так и не нашел. Я все время думал о том, написал ли я что-нибудь в ней о чуме или нет. Я уже и в сад спускался, пока искал тетрадь, но, казалось, уже давно забыл, что ищу ее. Я вышел на улицу с похожим чувством: я куда-то шел, но вроде бы не совсем бесцельно. Кажется, я все еще полагал, что смогу что-нибудь найти.
На улицах и на пляже нет вчерашнего оживления. Песок влажный, солнце не греет, а застывшее Мраморное море кажется грязным и бесцветным. Закрытые выцветшие зонтики навевают какую-то безысходность, напоминающую о смерти. Казалось, неведома ч цивилизация, не сумевшая выжить, не потеряв себя, готовилась быть сметенной безжалостным вихрем далекого, бог знает откуда пришедшего урагана… Я прошел между машин, отдававших собранную за день жару уходившему дню, и дошел до кофейни у пирса. Там я увидел своего давнего приятеля по кварталу: он возмужал, женился, рядом с ним его жена с ребенком, мы поговорили — да, с помощью самых тех ничего не значащих слов…
Он рассказал своей жене, что я — один из старейших жителей Дженнет-хисара. В понедельник вечером они встретили Реджепа. Когда приятель спросил меня о Сельме, я не стал говорить, что мы развелись. Потом он вспомнил о приключениях нашей молодости. Вроде того, что мы уплывали на лодке в море и пили до утра. Я, оказывается, обо всем давно забыл. Еще он рассказал, кто здесь из наших, рассказал, кто чем занимается. Говорят, Орхан с Шевкетом приедут через неделю; Шевкет женился, Орхан пишет роман. Он видел их мать. Потом он спросил меня, есть ли у меня ребенок. Спросил и об университете, поговорил о тех, кто уже умер. Почти шепотом добавил: утром здесь напали на какую-то девушку, кто знает, за что ее избили. Это произошло на глазах у всех, средь бела дня. Все смотрели, но никто не вмешался, наши люди теперь научились не вмешиваться, боятся и никогда не спешат на помощь. Потом он сказал, что хотел бы увидеться со мной в Стамбуле, вытащил из кармана визитку и дал мне. Вставая, он заметил, что я смотрю на визитку, и сказал: у него есть мастерская, фабрикой, конечно, еще не назовешь, но все-таки. Они изготавливают тазы, ведра, корзины. Ну конечно, из пластмассы.
На обратном пути домой я зашел в бакалею и купил бутылку ракы. Дома опять напомнил Нильгюн про больницу и сел пить. Нильгюн ответила: «Нет, не поеду», Реджеп все слышал и посмотрел на меня осуждающе. Может, поэтому я не попросил его приготовить мне закуску. Пошел на кухню, приготовил все сам. А потом сел и расслабился, чтобы слова и картинки беспрепятственно мелькали у меня в голове. Подумал, что победа и поражение являются просто словами: во что ты поверишь, то в конце концов и придет к тебе. Знаете, в романах иногда пишут: теперь я чувствую, что конец близок. Может быть, в романе у Орхана тоже есть такое предложение. Я не сдвинулся с места, когда Реджеп начал накрывать на стол, и старался не обращать внимания на его укоряющий взгляд. Бабушку привели вниз, когда стемнело, и я спрятал бутылку. Зато Метин, не стесняясь, откровенно выставил на стол свою бутылку и начал пить. Бабушка будто ничего не замечала: казалось, она молилась или вполголоса на что-то жаловалась. Потом Реджеп отвел ее наверх. Мы молчали.
— Давайте вернемся в Стамбул, — сказал Метин. — Прямо сейчас, немедленно!
— Ты же сначала до середины лета тут собирался оставаться, — удивилась Нильгюн.
— Я передумал, — сказал он. Немного помолчал и добавил: — Мне скучно тут, давайте вернемся!