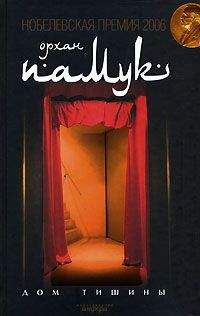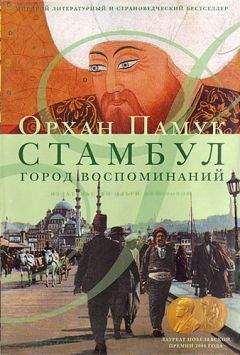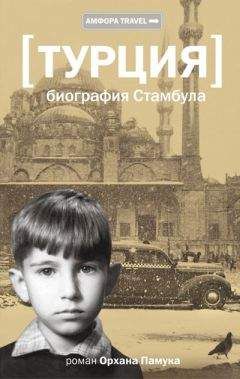— Давайте вернемся в Стамбул, — сказал Метин. — Прямо сейчас, немедленно!
— Ты же сначала до середины лета тут собирался оставаться, — удивилась Нильгюн.
— Я передумал, — сказал он. Немного помолчал и добавил: — Мне скучно тут, давайте вернемся!
— Они тебе не нравятся? — спросила Нильгюн.
— Кто?
— Твои старые друзья.
— Нильгюн, тебе срочно надо в больницу, как ты этого не понимаешь? — воскликнул Метин. — Я серьезно говорю!
— Но мы же завтра уезжаем, — заметила Нильгюн.
— Я больше не выдержу здесь, — сказал Метин. — Фарук, если хочешь, оставайся здесь. Но дай мне ключ от машины, я отвезу Нильгюн.
— У тебя же прав нет, — сказала Нильгюн.
— Сестричка, ты что, не понимаешь? Тебе надо ехать в больницу! — повторил Метин. — А если что-нибудь случится, что тогда? Фарук ничего не собирается делать, ему все равно. Я поведу машину.
— Ты такой же пьяный, как он, — вздохнула Нильгюн.
— Ты не хочешь ехать? — воскликнул Метин. — Почему ты не хочешь ехать?
— Сегодня вечером мы остаемся здесь, — спокойно сказала Нильгюн.
Они замолчали. Воцарилось долгое молчание. Реджеп, уложив Бабушку, спустился вниз и убирал со стола. Я увидел, что Метин думает о чем-то мучительном. Сжавшись, он задержал дыхание, как в облаке грязной пыли. Потом вдруг расслабился.
— Я сегодня вечером здесь не останусь, — сказал он. Он встал и словно из последних сил поднялся наверх. Скоро он спустился — причесанный, переодетый и, не сказав ничего, ушел. Мы еще вдыхали запах его лосьона после бритья, а он уже дошел до калитки.
— Что это с ним такое? — спросила Нильгюн. В ответ я прочитал ей бейт[72] из Физули,[73] кое-что в нем изменив:
В прекрасную, свежую розу вновь он влюблен,
Коль часто алеет лик его и дух возмущен.
Нильгюн засмеялась. Мы замолчали. Казалось, больше не о чем говорить. И в саду стояла невероятная тишина, более глубокая, чем та, что бывает после дождя, и более мрачная. С отвратительным любопытством я разглядывал маску на лице Нильгюн. На нем словно стояли печати лиловыми чернилами. Реджеп ходил на кухню и обратно. Я подумал об истории, о своей потерянной тетради, о многом другом. Все это было невыносимо. Я встал.
— Ладно, братец, иди, конечно, — сказала Нильгюн. — Пройдись немного, развеешься.
Я вовсе не думал об этом, но пошел.
— Береги себя, — сказала Нильгюн мне след. — Ты много выпил.
Выходя из калитки, я вспоминал о своей жене. Потом подумал о Физули, о его стремлении испытывать боль. Интересно, поэты Дивана[74] могли писать такие стихи мгновенно или они трудились над каждым стихотворением по многу часов, записывая и исправляя? Я размышлял об этом, лишь бы занять себя чем-нибудь, я понял, что не смогу быстро вернуться домой. На улицах было безлюдно, как бывает воскресным вечером, кафе и бары стояли полупустые, а некоторые гирлянды цветных огоньков на деревьях не горели, наверное, из-за вчерашнего урагана. Грязные следы велосипедов, заезжавших в лужи по краям мостовой, чертили на асфальте бессмысленные кривые. Покачиваясь, я дошел до отеля, вспоминая годы, когда я мог ездить на велосипеде, свою молодость, потом опять — жену, размышляя об истории, рассказах, о Нильгюн, которую мне нужно было везти в больницу, и об Эвлии Челеби. В отеле я услышал пошлую музыку и потрескивание флуоресцентной лампы, освещавшей пластмассовую вывеску отеля. Я долго сомневался. Я хотел и преступления, и простодушия. Я удивлялся людям, помешанным на мыслях об ответственности. Как фотографы, которые раздражают вратарей, стоя во время футбольных матчей за воротами, меня раздражало, что мое сознание постоянно пыталось застать меня на месте преступления, а любовь к морали действовала мне на нервы. В конце концов я решил — в больницу поедем утром.
Я вошел в отель через двери-вертушку и, как собака, которая находит кухню по запаху, на слух спустился по лестнице туда, откуда эта музыка раздавалась, бесшумно ступая по коврам, мимо официантов. Открыл какую-то дверь — за столом сидели пьяные туристы, мужчины и женщины, перед ними стояли бутылки, на головах — фески, они что-то кричали. Я понял — это восточная ночь, какие устраивают иностранным туристам в качестве прощального вечера в Турции. На широком возвышении захудалый оркестр издавал металлический грохот. Я узнал у официанта, что танец живота еще не начинался, сел за столик у них за спиной и, смущаясь, попросил ракы.
Вскоре после того, как я выпил первую рюмку, зазвучала подвижная и легкая музыка, я услышал звон бубенчиков и увидел загорелое тело танцовщицы, извивающееся в коническом луче света, бродившего в полутьме, засмотрелся на дрожавшие блестящие подвески ее костюма. Когда она быстро двигалась, казалось, что от ее спины и груди льется свет. Я заволновался.
Кажется, я встал. Официант принес мне вторую рюмку. Я опять сел и подумал, что не только танцовщица исполняет свой номер, мы все исполняем какой-то спектакль. Танцовщица пыталась изображать восточную женщину, всецело принадлежащую мужчине, а туристы, проводившие свой последний вечер на Востоке, воспринимали ее такой, как она хотела. Когда луч света бродил по столам, я смотрел на лица немок — они не были удивленными, но, казалось, хотели удивляться и улыбались. Происходило то, чего они ждали, и, глядя на танцовщицу, они думали, что они — не «такие». Я чувствовал, что себя-то они считают равными мужчине и совершенно спокойны, но при этом считают «такими» и нас, всех нас. Черт, они же унижали нас, как домохозяйки, которые верят, что равны своим мужьям, когда командуют прислугой!
Я почувствовал себя невероятно униженным, мне захотелось испортить этот отвратительный танец, но я знал, что не собираюсь ничего делать — просто наслаждаюсь чувством поражения и сумятицей в голове.
Музыка заиграла громче, и когда ударные в невидном углу сцены без особых усилий перекрыли остальные звуки и общий шум, танцовщица повернулась спиной к столам и плавной нервной дрожью руки начала раскачивать свое вызывающее тело. По тому, как она быстро повернулась к нам, агрессивно и горделиво тряся грудью, я понял, что она хотела показать, что презирает всяческие запреты. Потом луч осветил ее лицо, я увидел на ее лице неожиданное чувство победы и уверенности в себе, и это придало мне спокойствия. Да, не так просто заставить нас склонить голову! Мы еще кое-что можем, мы еще держимся!
Смотрите — танцовщица будто кидает всем им вызов! Она игнорирует взгляды затаивших дыхание туристок, не замечая их почти научный интерес. А большинство мужчин-туристов в фесках давно расслабились: они уже не смотрят на танцовщицу как на женщину — вещь мужчины, они, похоже, забыли, кто они, робко и почтительно глядя на уважаемую женщину.
Я почувствовал странную радость: бесформенное, но подвижное тело танцовщицы взволновало меня. Мы все словно бы спали, видели один сон и сейчас вместе просыпались. Глядя на ее загорелую кожу вокруг пупка, где блестели капельки пота, я представил, как бы я вцепился в нее, и я пробормотал: немедленно возвращаюсь домой, везу Нильгюн в больницу, а потом сажусь и обстоятельно занимаюсь историей. У меня получится, я буду верить в рассказы прошлого и в реальные истории, в события из плоти и крови, у меня получится, я могу это сделать немедленно, прямо сейчас.
Танцовщица, словно желая показать свое презрение, начала выводить за руки на сцену тех, кого раньше заприметила. О Аллах, она заставляла немцев исполнять танец живота вместе с ней! Мужчины двигались медленно и тяжело, неловкими движениями разводя руки в стороны, и было видно, что они стесняются своих друзей, но верят, что имеют право поразвлечься. Черт побери, все игра, игра, я напрасно пытаюсь себя убедить в обратном.
Вскоре танцовщица принялась за то, чего я ждал и чего боялся: умело выбрав среди туристов добровольца, выглядевшего настоящим растяпой, она начала его раздевать. Я подумал, что окончательно утратил надежду. Когда толстый немец, неловко трясший животом, улыбаясь своим друзьям, стал снимать рубашку, я понял, что больше не выдержу, я уже падаю. Я хочу, чтобы из моего сознания все стерлось, чтобы от моего прошлого не осталось и следа, а от будущего и моих надежд — тоже ничего не осталось. Я хочу избавиться от искусственных сооружений моего разума, я хочу свободно гулять в мире, существующем за пределами моего сознания. Но теперь я знаю, что не смогу забыть себя и всегда буду жить, как два разных человека. И, не находя себе места среди сомнений, догадок и фантазий моего разума, будь он неладен, буду еще долго сидеть в этом отвратительном месте, с этой гадкой музыкой.
Время далеко за полночь, но я все еще слышу легкий шум в доме, и мне интересно: что они делают там, внизу, почему не спят и никак не отдадут мне безмолвную ночь? Я встала с кровати, подошла к окну и выглянула вниз — вот, свет Реджепа еще освещает сад — что ты там делаешь, карлик? Я испугалась! Он ведь коварный: он взглянет на меня, и я понимаю, что он следит за всем во мне, смотрит и наблюдает за каждым движением моих рук, замышляет что-то в своей огромной голове. Кажется, они теперь и ночь хотят мне отравить, и мысли мои замарать хотят. Я вспомнила со страхом: однажды ночью Селяхаттин пришел ко мне в комнату, чтобы не дать мне очиститься от повседневной грязи, погрузившись в наивное простодушие своих мыслей, чтобы я, как он, испытала боль. Вспомнив об этом, я опять испугалась, задрожала, как от холода, — он сказал, что открыл смерть. Я испугалась еще больше, отошла от темного окна, моя тень, падавшая на сад, пропала, я быстро вернулась в кровать, забралась под одеяло и стала вспоминать.