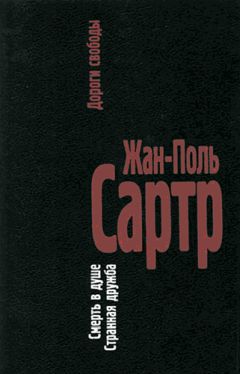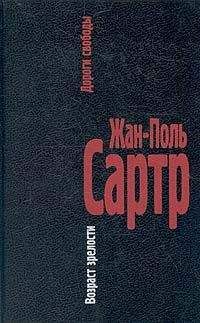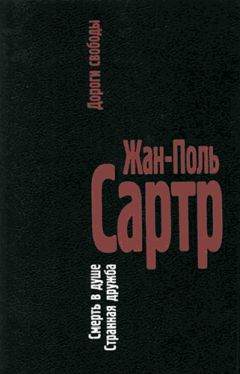Их около тридцати: через головы Брюне видит, что они сбились в черную кучку, укрывшись под зонтами. Два немца идут им навстречу, улыбаясь, говорят с ними, проверяют документы, затем сторонятся, пропуская их. Женщины и старики, почти все в черном, похороны под дождем: они несут чемоданы, сумки, корзины, накрытые салфетками. У женщин серые липа, суровые глаза, усталый вид; они продвигаются мелкими шажками, поджав бедра, смущаясь пожирающих их взглядов.
«Проклятье! Какие же они уродины», — задыхается ефрейтор». — «Да нет, — говорит другой, — все равно есть чем заняться: посмотри на зад вон той брюнетки». Брюне с симпатией смотрит на посетительниц Конечно, они некрасивы, у них хмурый и замкнутый вид, можно полумать, что они пришли сказать мужьям: «Ты с ума сошел, как ты угодил в плен? Как же мне теперь одной управляться, да еще с ребенком?» Однако они пришли пешком или приехали в товарняках, таща тяжелые корзины с едой; именно такие неизменно приходят и ждут, неподвижные и безликие, у ворот госпиталей, казарм и тюрем: смазливые куколки с зовущим взглядом носят траур дома. На лицах этих людей Брюне с волнением обнаруживает всю предвоенную нужду и нищету; у них были тревожные, неодобряющие и преданные глаза, когда их мужья устраивали сидячую забастовку, а они приносили им супа. Пришедшие мужчины в большинстве своем крепкие, спокойные, приземистые старики. Они идут медленно, тяжело, но у них походка свободных людей: когда-то они выиграли войну и чувствуют, что выполнили свой долг. Это поражение — не их поражение, но они все же принимают за него ответственность; они несут ее на своих широких плечах, потому что, произведя на свет ребенка, нужно платить за стекла, которые он разобьет; без гнева и стыда каждый из них пришел повидать своего сыночка, совершившего очередную глупость. На этих полукрестьянских лицах Брюне находит то, что потерял: смысл жизни. «Я с ними говорил, они не спешили понять, они слушали с тем же вдумчивым спокойствием, немного вдаваясь в мелочи; но то, что они поняли, они больше не забывали». В его сердце сызнова зарождается прежнее желание: «Работать, чувствовать на себе взрослые одобрительные взгляды». Он пожимает плечами и отворачивается от этого прошлого, он смотрит на других, на стайку невротиков с невыразительными подергивающимися лицами: «Вот мой удел». Поднявшись на цыпочки, они вытягивают шеи и следят за посетителями взглядом обезьяньим, дерзким и одновременно боязливым. Они рассчитывали, что война сделает их мужчинами, дарует им права главы семьи и ветерана войны: это был торжественный ритуал приобщения, их война должна была превзойти ту, другую, Великую Мировую, слава которой подавляла их детство; они рассчитывали, что она будет еще более великой, еще более мировой; стреляя во фрицев, они бы исполняли ритуальный завет великих отцов, с подобной мечтой вступает в жизнь каждое поколение. Но они ни в кого не выстрелили, ничего не истребили, не получилось: они так и остались несовершеннолетними, и вот здравствующие отцы проходят перед ними; они вызывают зависть, ненависть, обожание, внушающие страх, они снова погружают двадцать тысяч воинов в подспудное детство лежебок.
Вдруг один из них оборачивается и обращает лицо к пленным: у него густые черные брови и обветренное лицо, он несет на конце трости узел. Он приближается, кладет руку на железную проволоку и снизу смотрит на них большими, в красных прожилках, глазами. Под этим взглядом животного, медленным, невыразительным и суровым, пленные ждут, съежившись, затаив дыхание, собираясь сопротивляться: они ждут пары оплеух. Старик говорит: «Ну вот и вы!» Наступает молчание, потом кто-то бормочет: «Да, отец, вот и мы». Старик вздыхает: «Вот беда-то!» Ефрейтор откашливается и краснеет; Брюне читает на его лице то же судорожное недоверие. «Да, папаша, вот и мы: двадцать тысяч молодцов, которым хотелось стать героями и которые бесславно сдались без боя». Старик качает головой и говорит медленно и проникновенно: «Бедолаги!» Все расслабляются, улыбаются, все непроизвольно тянутся в сторону старика. Подходит немецкий часовой, он вежливо дотрагивается до руки старика, делает ему знак отойти, тот едва оборачивается: «Еще минутку, сейчас». Он заговорщицки подмигивает пленным, те улыбаются, они довольны, потому что старик сердечен и упрям, потому что он — свой, и они чувствуют себя как бы свободными. Старик спрашивает: «Не слишком тяжело?» И Брюне думает: «Ну вот, сейчас они начнут плакаться». Но двадцать голосов весело отвечают: «Нет, отец. Нет, нет, вполне терпимо». — «Ну что ж, вот и хорошо, — говорит старик. — Вот и хорошо». Ему больше нечего им сказать, но он остается на месте, грузный, каменистый, плотный; часовой осторожно тянет его за рукав, но старик колеблется, он озирает лица пленных, как будто ищет лицо своего сына; через мгновение какая-то мысль созревает в его глазах, вид у него неуверенный, и все же он произносит грубоватым голосом: «Знаете, ребята, вы не виноваты». Пленные ничего не отвечают, они держатся напряженно, почти по стойке смирно. Старик хочет уточнить свою мысль, он продолжает: «У нас никто не думает, что это ваша вина». Пленные по-прежнему молчат, и он говорит: «До свиданья, ребята». И после этого уходит. По толпе пробегает внезапная дрожь; все пылко кричат: «До свиданья, отец, до скорой встречи! До скорой встречи! До скорой встречи!» Их голоса крепнут по мере того, как старик удаляется, но он не оборачивается.
Шнейдер говорит Брюне: «Видишь?» Брюне вздрагивает: «А, что?» Но он прекрасно знает, что ему сейчас скажет Шнейдер. Шнейдер говорит: «Нам необходимо хоть немного доверия». Брюне улыбается и говорит: «Разве у меня действительно вид смотрителя покойницкой?» — «Нет, — отвечает Шнейдер, — сейчас — нет». Они дружелюбно смотрят друг на друга, Брюне резко отворачивается и говорит: «Посмотри на ту женщину». Она, прихрамывая, останавливается, маленькая и седая, роняет свой тюк в грязь, перекладывает в правую руку букет, который держала в левой, и поднимает руку прямо над головой. Проходит минута, можно подумать, что эта торжествующая рука, которая тянет ей плечо и шею, поднялась помимо ее воли; наконец, неуклюже размахнувшись, она бросает цветы в толпу. И они рассыпаются — полевые цветы, васильки, одуванчики, маки: должно быть, она сорвала их на обочине дороги. Пленные толкаются; они скребут землю и хватают стебли грязными пальцами; смеясь, они выпрямляются и показывают ей цветы, как бы отдавая ей этим дань уважения. У Брюне перехватило горло; он поворачивается к Шнейдеру и яростно говорит: «Цветы! А что было бы, если б мы победили!» Женщина не улыбается, она поднимает тюк и уходит, видна только ее покачивающаяся спина под непромокаемым плащом. Брюне открывает рот, чтобы заговорить, но он видит лицо Шнейдера и молчит. Шнейдер, толкая соседей, выбирается из рядов. Что случилось? Брюне следует за ним, кладет ему руку на плечо: «Что-то не так?» Шнейдер поднимает голову, и Брюне отводит глаза, он смущен собственным взглядом, взглядом смотрителя покойницкой. Он повторяет, глядя на ноги: «А? Что-то не так?» Они стоят одни посреди двора под мелким дождем. Шнейдер говорит: «Это тяжко». Молчание, потом он добавляет: «Тяжко снова видеть гражданских». Брюне произносит, не поднимая глаз: «Мне тоже»: — «Нет, — говорит Шнейдер, — это совсем другое; у тебя ведь никого нет». Помедлив, он расстегивает китель, роется во внутреннем кармане, вынимает оттуда странный плоский бумажник. Брюне думает: «Он все порвал». Шнейдер открывает бумажник: там только одна фотография, размером с почтовую открытку. Шнейдер, не глядя на нее, протягивает ее Брюне.
Брюне видит молодую темноглазую женщину. Она улыбается: Брюне никогда не видел подобной улыбки. Женщина выглядит так, будто отлично знает, что существуют концентрационные лагеря, войны, пленные, согнанные в казармы; она это знает и все же улыбается: всем побежденным, депортированным, пасынкам истории дарует она свою улыбку. Однако Брюне напрасно ищет в ее глазах подловатый унизительный отблеск милосердия; она улыбается им доверчиво и спокойно, она улыбается их силе, как будто просит их прощать победителей. За это время Брюне повидал немало фотографий и немало улыбок. Война всех их сделала мертвенными, на них стало невыносимо смотреть. На эту можно: улыбка родилась только что, она адресована Брюне, одному Брюне. Брюне-пленному, Брюне-отбросу, Брюне-победителю. Шнейдер склонился над его плечом. Он говорит: «Она ветшает». — «Да, — соглашается Брюне, — надо подрезать края». Он возвращает фотографию, блестящую от измороси; Шнейдер старательно вытирает ее отворотом рукава и кладет в бумажник. Брюне пытается определить: «Она красива?» Он не знает, у него не было времени убедиться в этом. Он поднимает голову, смотрит на Шнейдера и думает: «Она ему улыбалась». Ему кажется, что он видит Шнейдера другими глазами. Проходят двое пленных, очень молодых, это стрелки; они воткнули маки в петлицы, они не разговаривают, у них немного комичный вид первопричастников. Шнейдер провожает их взглядом; Брюне колеблется, полузабытое слово поднимается откуда-то из глубины, и он говорит: «По-моему, у них трогательный вид». — «Кроме шуток?» — отзывается Шнейдер. Сзади них теснятся ряды любопытных, посетители вошли в казарму. Шагая вперевалку, появляется Деврукер в сопровождении Перрена и наборщика. «Действительно, — думает Брюне. — Сейчас три часа». У всех троих замкнутые лица; Брюне злится, что они уже переговорили между собой: этому нельзя помешать. Он издалека кричит: «Ну как, ребята?» Они подходят, останавливаются и смущенно переглядываются. «Выкладывайте, о чем толковали, — быстро говорит он. — Что не ладится?» Наборщик останавливает на нем взгляд красивых тревожных глаз; выглядит он скверно. Он говорит: «Мы всегда делали то, что ты нам поручал, так?» — «Так, — нетерпеливо подтверждает Брюне. — Да, да. И что?» Наборщик не может больше ничего добавить, вместо него, не поднимая глаз, говорит Деврукер: «Мы хотим продолжать и будет продолжать, пока ты этого требуешь. Но это пустая трата времени». Перрен говорит: «Они ничего не хотят слушать». Брюне по-прежнему молчит, наборщик подхватывает безразличным тоном: «Как раз вчера я поссорился с одним типом, потому что я уверял его, что немцы отправят нас в Германию. Тип был сумасшедший, он сказал, что я из пятой колонны». Они поднимают глаза и упрямо смотрят на Брюне. «Представляешь себе, им даже нельзя плохого слова сказать о немцах». Деврукер собирает все свое мужество и смотрит Брюне в глаза: «Честно, Брюне, мы не отказываемся работать, если мы плохо взялись, мы готовы снова начать по-другому. Но пойми и нас. Мы ходим повсюду. За день мы обычно успеваем поговорить с двумя сотнями человек, мы измеряем температуру лагеря, ты же поневоле видишь меньше, ты не можешь представить себе всего». — «И что дальше?» — «Дело в том настроении, в котором находятся эти парни, если завтра освободят двадцать тысяч пленных, то будет на двадцать тысяч нацистов больше». Брюне чувствует, как жар опаляет его щеки, он поочередно смотрит на них; он спрашивает: «Вы в этом уверены?» Все трое отвечают «Да», и он их спрашивает. «Все?» Они еще раз отвечают «Да», и он внезапно взрывается: «В этом скопите людей есть рабочие и крестьяне, стыдно думать, что все они станут нацистами, а если и так, то это будет по вашей вине: человек не полено, понимаете, он живой, черт возьми, и его можно убедить; если вам не удается их обратить в свою веру, значит, вы не умеете работать». Он поворачивается к ним спиной, делает три шага, потом быстро возвращается к ним, выставив палец: «Все дело в том, что вы принимаете себя за важных персон. Вы презираете своих товарищей. Так вот, запомните: член нашей партии никого не презирает». Он видит их ошеломленные липа, злится все больше и кричит: «Двадцать тысяч нацистов, да вы с ума сошли! Вы не способны их изменить, пока вы их презираете! Попытайтесь сначала их понять: у этих парней смерть в душе, они уже не знают, что делать; они будут с первым, кто в них поверит».