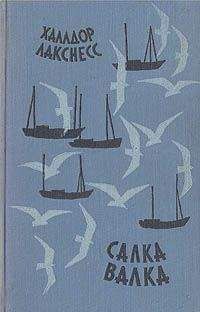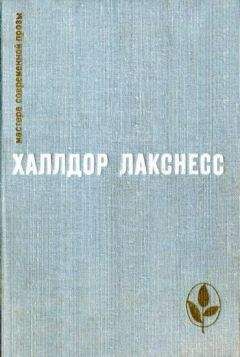Но на пороге произошло нечто непредвиденное и неожиданное: Салка Валка, защитница частной инициативы, пробилась через толпу, и, прежде чем кто-либо успел сообразить, в чем дело, нанесла два сильных удара кулаком по носу Катринусу и по удару в каждый глаз, притом с такой силой, что церковный строитель тотчас выпустил своего пленника и наверняка упал бы на пол, не поддержи его союзники. Затем девушка грубо оттолкнула в сторону нескольких из своих товарищей по союзу рыбаков, расчистив таким образом дорогу для Арнальдура. Теперь он мог свободно соединиться со своими приверженцами.
— Вы, жалкие твари! — закричала она, скрипнув зубами от ярости. — Нападайте на меня, если посмеете!
Оказалось, никто не имел желания нападать на нее. Драка окончилась. Катринусу Эйрикссону помогли выйти из помещения. Кто-то побежал за водой. На носу у него была огромная ссадина, а лицо так распухло, что глаз совсем не было видно. Из носа шла кровь. Все были убеждены, что, доведись другому человеку попасть в такую переделку, он наверняка лишился бы чувств.
— Наемные убийцы! — завопил кто-то.
Арнальдур Бьернссон, цел и невредим, стоял посреди двора и грозил своими белыми маленькими кулаками тем, кто возился около пострадавшего. Одежда на нем была порвана и висела клочьями, но, очевидно, он не был ранен. Самоуверенная, пренебрежительная улыбка исчезла с его лица, уступив место злобе, сильно обезобразившей его черты. Он походил на кота, сидящего на крыше и фыркающего на свору собак.
— Мы разделаемся с Йоханом Богесеном! Мы покончим с Аунгантиром Богесеном и с вами, прихвостнями Богесена. Я обещаю вам это!
Боже ты мой, что за всепоглощающее пламя ненависти пылало на этом интеллигентном молодом лице! Никогда в своей жизни Салка Валка не видела ничего подобного — такого лица, ужасного и привлекательного в одно и то же время. Этот огонь превратил ее собственные чувства в пепел, захлестнул ее, пробежал по всему телу как непонятное, сладостное предчувствие.
— Сальвор, ты предала наше дело! — крикнул ей Свейн Паулссон срывающимся голосом.
— Отвяжись! — откликнулась она презрительно и пошла домой.
«Птица на берегу, чайкой ее зовут». Девушка снимала с себя одежду среди ночного щебетания птиц, в то время как эхо мировой революции и боевой призыв сражаться против наемных убийц отдавался и пел в ее крови. Птицы и большая политика сливались в своеобразную симфонию, певшую в ее душе и теле.
Ты не хочешь, ты не хочешь,
Ты не хочешь, ты не хочешь
Станцевать, сплясать со мной.
Снова и снова звучала в ее душе эта нелепая, ею самой придуманная песенка, пока она не уснула. И ей приснился сон.
Ей снилась толпа изможденных, голодающих детой. Они стояли на мостике, переброшенном через ручей, и выкрикивали непристойные слова, пели отвратительные песенки. Они были такие голодные, что, казалось, могли съесть весь мир. Как это поется в старой песенке:
Ах, если б молочными стали озера,
И стали б сырами высокие горы,
И мед заливал океанское дно,
И маслом намазали б луг заодно…
Салка Валка была среди этих голодных ребят. Но вдруг в сон вплелась странная история — из библии, о Моисее, как его маленьким ребенком нашла в кустах дочь фараона и принесла домой, точно маленькую птичку. Салке казалось, что это она пошла в заросли и нашла его там, прибитого к берегу в небольшой корзине. Ею руководили христианские чувства. Потом вмешались король Сирии и Аввакум, и наконец она проснулась с тяжелой головой, уставшая больше прежнего. Было всего только два часа. Когда она снова уснула, тот же сон начался сначала, только на этот раз появился еще Стейнтор Стейнссон. Он ехал на колеснице господней, запряженной белой лошадью неописуемой красоты. Никогда в жизни она не видела подобного скакуна. Наездника она видела неясно, в тумане, и не была уверена, что это был именно Стейнтор Стейнссон. Может быть, это был сам Иисус Христос. И так всю ночь. Наконец наступило утро. Это было утро воскресного дня. Чего ей всю ночь снилась эта набожная дребедень? Лучше бы увидеть во сне что-нибудь, например, о мировой политике, постучавшейся в их местечко?
Она стряхнула с себя несуразные сны, как собака, спавшая под дождем и проснувшаяся в хорошую погоду. Девушка совсем не чувствовала себя выспавшейся. Спала она плохо, но решила не поддаваться больше дремоте, боясь опять погрузиться в путаный мир Моисея и Аввакума. Она быстро соскочила с постели, чтобы приготовить себе рыбу. День выдался чудесный. С фьорда доносился птичий щебет, птицы летали так низко, что задевали крыльями гладкую поверхность воды. Роса омыла траву, и девушке хотелось, подобно траве, обмыть свое тело. Ее выгон служил как бы проходным двором, и, моясь, девушка подумала о том, что не мешало бы повысить арендную плату за него. Если кто-нибудь из союза рыбаков вздумает прийти к ней, чтобы рассказать, чем кончился вчерашний митинг, она попросит его убраться восвояси. Ей нет дела до этого. И она продолжала мыться. Может ли что-нибудь доставить такое наслаждение, как мытье в прекрасное воскресное утро, когда ты молод и зеленая трава растет как бы в созвучии с твоей душой и телом, на радость нам, а не на печаль, как в старости. Девушка запела.
Она знала много песен о родине, ее славе, доблести ее героев. Но образы этих песен не находили отклика в душе народа, вскормленного из поколения в поколение на треске и рыбной требухе, они больше подходят господам, одетым в добротное пальто, которые обычно останавливаются в их местечке на полчаса, полные удивления и восхищения. Но она чувствовала, что весна пробудилась в ее душе, и она запела мелодию собственного сочинения:
Тра-та-та да тра-та-та,
Тра-ля-ля да тра-ля-ля,
Тра-та, та-та, та-та, та,
Тра-ля, ля-ля, ля-ля, ля.
Эта песенка родилась в самой глубине ее сердца и была каким-то странным образом связана с впечатлениями от игры на гармонике, которую она слышала однажды на случайно зашедшем сюда датском пароходе.
Дьявол тебя подери… Девушка стоит в чем мать родила, и вдруг кто-то постучал в дверь. Она вся сжалась, прикрыв руками грудь. Стук повторился.
— Попробуй только открыть, я убью тебя на месте, — крикнула девушка, не уверенная в своих затворах.
За дверью послышалось невнятное бормотанье.
Схватив первое, что попалось под руку, она натянула на себя и сердито спросила:
— Кто там?
— Парень, — послышался ответ согласно ритуалу.
В спешке она рванула старое платье, висевшее в кухне на крючке, подол его был обтрепан. Она быстро набросила его на себя, сунула ноги в сапоги и направилась в таком наряде к двери. Встревоженная этим посещением и незнакомым голосом, она решила сначала выяснить причину этого визита через узенькую щелочку, а потом уже открывать дверь.
Кто же стоял на пороге ее дома в яркое, солнечное утро, наполненное пением птиц, после всех этих путаных, сумбурных снов? Кто же иной, если не Арнальдур Бьернссон, человек, знающий решительно все на свете. Она стояла как вкопанная у двери и глядела на него, не спуская глаз, будто никогда раньше ей не приходилось принимать такого раннего гостя. Тем не менее она приветствовала его довольно дружелюбно, только несколько удивленно и отчужденно, хрипловатым голосом: кто там такой и что ему нужно? Когда-то они расставались в этом дворе — тогда земля была еще схвачена морозом. Какими они стали теперь? Есть ли на свете более глубокие воды, чем те, которые разделяют мужчину и женщину?
— Я не разбудил тебя? — сказал он, делая вопросительный жест рукой и задерживая два пальца на щеке.
— Нет, я мылась… Я собиралась переодеться, сегодня воскресенье.
Он облокотился на перила, достал из кармана сигарету, помял ее между пальцами, затем устало провел рукой по лбу и сдвинул кепку на затылок. Воротничок рубашки был несвежий, сам он небрит, наверное, и не умывался сегодня. Это был усталый, бедно одетый человек, возможно, голодный, без денег, в лучшем случае с парой монет в кармане, туфли его были нечищены. Салка подумала, что красный галстук при таком одеянии выглядит нелепо. Насколько ясной, логичной и убедительной была вчера вечером его речь, настолько же растерянным выглядел сегодня утром он сам. Несмотря на лучистые синие глаза, красиво очерченный рот и белые, правильной формы зубы, он вообще мало чем отличается от обычного бедняка и, по всей вероятности, не был способен расплатиться за те синяки, которыми она кое-кого наградила ради него, нанеся, возможно, тем самым непоправимый ущерб себе и своей репутации. Собственно, чего ради она помешала выставить его отсюда, когда лодка была уже наготове?
Арнальдур зажег сигарету и небрежно спросил: