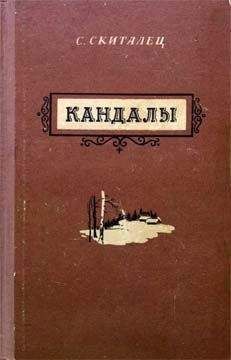— Так вот, мой милый Клим, я тебе вкратце рассказал, каким путем я шел: талант талантом, а без труда, на одном таланте, далеко не уедешь. Трудно, брат, нелегко!.. Теперь — революцию переживать будем, может, и мы пригодимся, в особенности ты — с твоим живым и ярким словом. Читал я твой стишок — сильно сказано! Ты только прочти его громче! Отчетливей лепи каждое слово и — выйдет!
Зрительный зал, хоры, коридоры — все было битком набито публикой. Гремели аплодисменты, на эстраде стоял изящный бритый человек в сюртуке и кланялся публике. Красные розы сыпались сверху к его ногам.
Публика требовала «бис». Он подошел к роялю, аккомпаниатор взял аккорд. Все стихло.
Сны мимолетные,
Сны беззаботные
Снятся лишь раз!.. —
музыкально переплетаясь с аккомпанементом, звучал бархатный голос.
С трудом проникли в обширную, уютно обставленную комнату артистов. На длинном чайном столе стояли закуски, вино, фрукты, цветы.
Шло второе отделение. Все ждали Жигулева. Было еще несколько участников вечера, ожидавших своего выступления. Виднелась и заметная фигура Ильина.
Приехавших встретили устроители, в том числе «граф» и Кирилл. Ирина предложила чаю.
С эстрады, под гром новых аплодисментов, вернулся изящный мелодекламатор.
— Александр Иваныч, твой черед! — торжественно сказал Жигулеву «граф». — Наш знаменитый аккомпаниатор здесь!
Жигулева, одетого парадно, с улыбкой обнял за талию высокий молодой человек во фраке, с бритым лицом — известный композитор и пианист, с нотами в руке.
— Я готов! — сказал певец.
Одинакового роста, молодые, стройные, они скрылись за тяжелым занавесом, отделявшим комнату от эстрады.
Их встретил гул аплодисментов. Оба артиста были достойны друг друга: голос певца и замечательный аккомпанемент сливались в одно целое.
Жил был король когда-то,
И с ним блоха жила! —
разносился голос певца.
Ильин пошел в партер.
Бушуев скромно сидел за чайным столом. Напротив него сидел известный поэт, лицом похожий на Гейне. Их познакомили. Остальная публика артистической комнаты стояла у занавеса — слушала.
Гениальную песенку о «Блохе» Гете, положенную на музыку тоже гениальным композитором, Бушуев слушал в первый раз. До Жигулева давно не появлялось певца, который решился бы выступить с «Блохой», требовавшей передачи тонких художественных оттенков. Теперь Жигулев вернул к жизни этот шедевр.
…Зовет король портного:
— Послушай, ты, чурбан!
Для друга дорогого
Сшей бархатный кафтан!..
Клим не видел певца, слышал только голос, но тотчас же ясно представил себе и короля и простолюдина-портного — кривоногого от вечной работы с поджатыми под себя ногами на своем портняжном столе.
— Блохе — кафтан? — удивился портной, и вдруг прорвало его простонародным смехом: Блохе! Ха-ха-ха-ха!.. Блохе — кафтан? — Смех был такой естественный, неудержимый… Струны весело вторили смеху.
Но уже торжественной волной хлынуло:
… Вот в золото и бархат
Блоха наряжена,
И полная свобода
Ей при дворе дана!
Да это же не блоха больше — придворная персона!
Опять тот же смех, но не смех портного! Смеется кто-то другой, с оттенком негодования и грусти, как бы качая головой. — Блохе? Ха-ха-ха-ха!
Король ей сан министра
И с ним звезду дает!..
Кричит негодующий голос:
По струнам пробежала тревога:
И самой королеве
И фрейлинам ее
От блох не стало мочи,
Не стало и житья!
— Ага!.. — злорадно смеется голос.
И тронуть-то боятся,
Не то — чтобы их бить!
А мы — кто стал кусаться —
Давай его — душить!
Последнее слово прозвучало грозно и мощно: совсем не до смеха стало. Как бы вдалеке замирает хохот, подобный отдаленному грому: король, осмеянный народом, — больше не король.
Долго гремели аплодисменты, смешанные с разноголосыми криками нескольких тысяч людей, требуя продолжения грозных песен. Несколько раз бисировал Жигулев. Наконец, оба они, певец и музыкант, взявшись за руки, вбежали в артистическую, возбужденные успехом. Грохот аплодисментов долго не затихал.
— Ваш черед! — сказал «граф» известному поэту.
— После Жигулева меня никто не станет слушать! — возразил он. — Вы слышите — в каком буйном настроении шесть тысяч человек? — И, пожав плечами, добавил: — Я боюсь! Не хотите ли вы? — обратился он к Бушуеву.
— Отчего же! — согласился Клим. — Я никому не известен, чтец — никакой! С меня много не спросится!
— Коли так — выходи! — решил «граф». — Во весь голос читай! Переполнено, на колоннах висят! Смелей!
Темная аскетическая фигура исчезла за портьерой.
Выход неизвестного поэта не был встречен аплодисментами. Публика не знала Бушуева.
В артистической тоже никто не обратил внимания на это мелкое выступление. Все разговаривали. С эстрады глухо доносился взволнованный, страстный голос: Клим начал.
И вдруг случилось что-то необыкновенное: словно страшная тяжесть с грохотом упала с потолка и рассыпалась в партере. Казалось, дрогнули стены не только от небывалых аплодисментов, но и от топота ног, от рева, стука и гула толпы. Люстру в комнате кто-то погасил, осталось только несколько рожков на стенах.
Началось смятение.
В артистическую вбежал побледневший «граф». Его окружили, жадно расспрашивали.
— Публика сорвалась с мест и хлынула к эстраде: вы понимаете, какая давка получилась? В зал вошел наряд полиции, вечер закрыт!
В комнату вошли пристав и несколько полицейских.
Пристав, бравый, корректный, вышколенный, в белых перчатках, подошел к «графу», козырнул.
— Виноват, вы ответственный устроитель вечера?
— Да.
— А еще?
Подошел Кирилл.
— Прекрасно! Будьте добры последовать за нами… Мы должны составить протокол, а вы — его подписать. Больше нам от вас ничего не потребуется. А где автор стихов?
Но Клима так и не нашли. Он исчез бесследно.
IIБольшая дорога в заволжской степи состоит из нескольких дорог, идущих рядом в одном направлении. Дороги то расходятся, то сходятся, переплетаясь между собой — места много, поезжай куда хочешь и как хочешь! Кругом простор и ширь, только степь да безоблачное небо с жарко палящим солнцем. Ветер чуть-чуть колышет травы да невидимый жаворонок поет где-то в небесах свою беспечную песню.
Степью идет человек в круглой соломенной шляпе, кургузой куртке, коротких штанах до колен, высоких чулках и желтых башмаках на толстых подошвах. За спиной серый мешок на ремнях, в руке палка с козьим рогом вместо рукоятки. Одежда заморского человека, а лицо русское, молодое, с бородкой.
Уже с утра жарко в степи! Позади, на горизонте, стоит желтое облако песчаной пыли, и сквозь это облако чуть виден удаляющийся город с куполами церквей и колоколен. Пешеход расстегнул куртку, смотрит по сторонам. Глухо слышится слабое громыхание, кто-то едет вдали, нагоняя его. Он замедляет шаги: дребезжит бричка, лошадь бежит споро, но баба, сидевшая в бричке, поровнявшись с ним, подхлестнула ее кнутом, опасливо взглянув на встречного.
Он помахал бабе и закричал неслышное ей за дребезжанием колес.
Баба дико посмотрела на соломенную шляпу, на кургузый пиджак и еще приударила лошадь. Бричка быстро скрылась из виду вместе с облаком пыли.
Пешеход продолжал шагать под палящими лучами солнца.
Хорошо думается человеку, когда он один шагает по большой дороге в степи: дикая степь, и дикие в ней люди живут.
Дорога спустилась в ложбину, потом поднялась по косогору. Взобравшись на него, путник присел отдохнуть на бугре.
Никого нет в этом зеленом океане. Степь громадна, страшна и молчалива.
Вдруг послышался слабый звон бубенчиков. На косогор шагом взбирался тарантас с открытым кожаным верхом, запряженный парой крепких сивых лошадей. Ямщик сидел не на козлах, а на барском месте и тоненьким голоском напевал протяжную песню, слов которой невозможно было разобрать: ветер то относил их в сторону, то бросал на дорогу вместе со звоном бубенчиков.
Путешественник решительно стал у дороги.
Из тарантаса выглянуло большое, обросшее клочковатой молодой бородкой лицо.
Взглянув на прохожего в шляпе, в высоких чулках и с палкой, ямщик улыбнулся добродушно-лукавой улыбкой:
— Мир дорогой! Не подвезти ли?
— Подвези-ка, родной! За труды твои заплачу! Далеко едешь?
— Я-то далеко! Аж в Кандалы! А вам, чай, близко куда-нибудь? Садитесь!