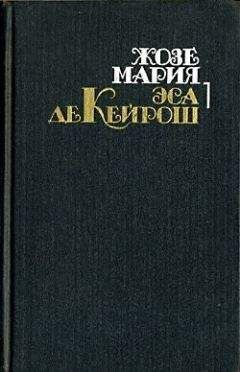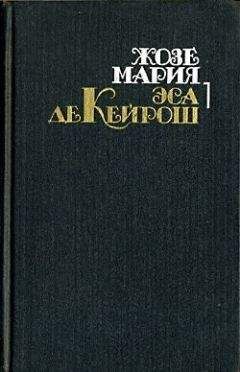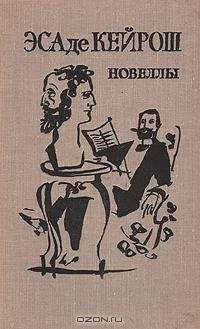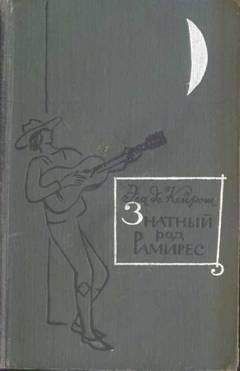Истинный герой «Переписки…» – по сути не Фрадике, а вся, вошедшая в кругозор Кейроша, многоликая, многоязычная, многобожная культура человечества. «Переписка Фрадике Мендеса» как бы приглашает читателя на своеобразный карнавал культур, подобный тому «фантастическому маскараду», который наблюдают повествователь и Фрадике на улицах Каира в день мусульманского праздника. Быть может, главный дар Фрадике – умение вживаться в те культурные миры, с которыми он встречается в своих странствиях, превращаться в гражданина тех городов, которые он посещает, извлекать «из каждой веры… ту частицу истины, которая непременно в ней есть».
Технократическая цивилизация отталкивает Фрадике (и Кейроша) именно потому, что в ней заложена тенденция к сглаживанию индивидуального своеобразия культур, к их нивелированию по усредненно-евпропейскому образцу.
Но не заложена ли эта же тенденция в высказываемом Фрадике современному европейцу пожелании вновь обрести «свое благородное первобытное состояние, телесную наготу и умственную оригинальность», стать «беспорочным Адамом, девственным в литературном отношении», очистить свою голову «от всех понятий и сведений, нагромоздившихся там со времен Аристотеля»? В этой декадентской пресыщенности, перекормленности культурой – а Фрадике в этом смысле среди своих современников ничуть не одинок, – в этой жажде варваризации таилась, как показала история Европы XX столетия, та же угроза гибели индивидуального, что и в достижениях машинного XIX века. В «Переписке Фрадике Мендеса» чистый эстетизм и культурный нигилизм обнаруживают себя как две стороны одной медали. Вступив на путь тотального отрицания и цивилизации и культуры, Фрадике (а вместе с ним автор) проделывают его до конца.
В XII письме Фрадике восторженно описывается полная довольства усадебная жизнь некоего «поэта и земледельца», который «обрабатывает землю и пасет стада и с благоговением воспевает героическое прошлое Португалии», жизни, «протекающей под небесной лазурью… среди ароматов роз и жасминов», «под звон колоколов», жизни, где «труд… кажется… нескончаемым праздником», где человек «всеми порами» чувствует «необыкновенную благость природы».
Сочинения Кейроша 90-х годов – дань иллюзии куда более старой, нежели буржуазный прогресс, иллюзии, о которой писал еще Камоэнс в «Октавах о несправедливом устройстве мира…»:
Блажен, кто не знавал иных забот,
Как охранять от злого волка стадо,
Вести к ручью с водой прохладной скот,
Чье млеко – всем трудам его награда,
И пусть фортуна мир перевернет —
Жизнь для него довольство и отрада…[6]
В последнее десятилетие жизни, в Париже, в маленьком, утопающем в зелени особняке, Кейрош будет творить свой патриархально-утопический миф. Искать выхода.
Конечно, консервативно-утопические воззрения Кейроша 90-х годов не могли произвести полную трансформацию его художественного мира: как уже говорилось, свободное творческое начало в сознании писателя было сильнее всякого рода идеологических иллюзий. Поэтому в романе «Знатный род Рамирес», написанном в 1894–1897 годах, сохранилось немало общего с произведениями Кейроша 80-х годов. Чувства и поступки Гонсало Мендеса Рамиреса также, как и поведение Теодорико Рапозо, не вписываются в характерологическую парадигму: о Гонсало нельзя сказать с определенностью, добр он или жесток, труслив или отважен, благороден или подл, талантлив или бездарен, сохранились ли в нем хоть какие-нибудь достоинства его героических предков или он полностью их утратил. Герой Кейроша то кипит справедливым гневом по отношению к своему бывшему другу, губернатору округа Андре Кавалейро, то, забыв о фамильной чести, с ним примиряется, дабы получить освободившееся депутатское место, то возводит напраслину на обманутого им же крестьянина Каско, то хлопочет ночью у кровати его больного сына, то признается себе, что «врожденная трусость, неодолимый плотский страх обращают его в бегство перед любой опасностью, перед угрозой, перед тенью», то «обуянный гордостью и силой, прорвавшимися из глубин его существа», обрушивает хлыст на голову оскорбившего его наглеца, то часами сидит за письменным столом, то неделями слоняется без всякого дела… Но эта непоследовательность Гонсало и составляет самую суть его образа, делает его в наших глазах просто человеком, а человек – от природы грешен. Равно как и наделен искрой Божьей. Поэтому в нем борются высокое и низкое, он одержим благородными и низменными порывами, слаб и силен…
Эта сопряженность, внутренняя борьба несовместных начал лишь была намечена в финалах «Мандарина» и «Реликвии». В «Семействе Майа» этой негероичной человечностью отмечены образы важных, но все же второстепенных героев. Роман «Знатный род Рамирес» целиком и полностью построен как «житие одного грешника»: первая и большая часть повествования посвящена подробностям грешной жизни будущего святого в миру, затем в его жизни происходит резкий перелом, отмечающий полное духовное перерождение героя (в «Рамиресах» это – X глава, в которой трусливый и безвольный Гонсало вдруг превращается в «истинного» Рамиреса. «И он почувствовал, что великие дела ждут его, что он еще вкусит гордую радость полной жизни, познает творчество, прославит заново свой славный род, и родная земля благословит его за то, что он служил ей по мере сил»), наконец – финал, повествующий о его «святых» деяниях. Мы не случайно использовали слова Достоевского для определения жанрового своеобразия «Знатного рода Рамирес». Именно в 90-е годы Кейрош испытывает необычайный интерес к России и к русской литературе, читает (по-французски) Тургенева, Достоевского, Толстого, штудирует книгу графа де Вогюэ «Русский роман», а в год начала работы над «Рамиресами» публикует в выходящей в Рио-де-Жанейро газете «Новости» эссе «Идеал-Бог» (в названии эссе слово «Бог» – русское, в латинской транскрипции: «Воск»!).
Конечно, у Кейроша было достаточно художественного чутья, чтобы не следовать слепо житийному канону: расправляясь с обидчиком, Гонсало превращается не в святого и не в один миг. Его «послушничество» являет собой создание плантаторского хозяйства в Замбези, откуда он шлет домой «веселые письма, полные энтузиазма основателя империи». При этом к подвигам Гонсало в Африке Кейрош относится всерьез, как бы опровергая финалом романа «филистерские» рассуждения муниципального чиновника Жоана Гоувейи о том, что, будь он премьером страны, он «продал бы Африку с аукциона… во имя здравого принципа»: «Кто владеет заморскими территориями, которых не в силах освоить по недостатку средств или рабочих рук, должен эти территории продать и на вырученные деньги починить крышу у себя над головой… вырастить сад на доброй земле, по которой ходят его собственные ноги». Гонсало растит сад в Замбези – и в этом автор его вполне одобряет. Но Кейрош-художник не мог не задаться вопросом, как встроить образ Гонсало в ряд между киплинговским суперменом и св. Франциском Ассизским? И он находит достаточно изящный ход: как действующее лицо романа, как персонаж, сквозь призму восприятия которого и строилось все изображение, Гонсало исчезает из книги как раз в момент отплытия из Португалии. А в последней главе перед читателем возникает его «тень», образ его образа, слагающийся из сведений, содержащихся в письме дальней родственнице, из разговоров о нем его близких и его друзей. Читатель сугубо «житийной» части романа – его XII главы, – в которой герой из человека-грешника превращается в эмблему-символ самой Португалии, должен довольствоваться слухами о Гонсало, которые сообщает нам автор, утрачивающий тот тесный внутренний контакт с героем, который он сохранял на протяжении всех предыдущих одиннадцати глав.
В XII главе Кейрош творит миф о блистательном настоящем и будущем Гонсало, не скрывая своей мифотворческой цели. Но стоит ли сегодня заниматься разоблачением кейрошевских иллюзий? И вправе ли мы выносить осуждающий вердикт его заблуждениям? Ведь в момент смерти писателя до португальской Свободы оставалось еще семьдесят с лишним лет – еще одна проигранная человеческая жизнь.
С. Пискунова
В пасхальное воскресенье вся Лейрия узнала, что соборный настоятель, падре Жозе Мигейс, скончался на рассвете от апоплексического удара. Человек он был полнокровный, упитанный и пользовался среди духовенства епархии славой заядлого чревоугодника. О его обжорстве ходили легенды. Когда падре Жозе Мигейс, выспавшись после обеда, выходил с пылающими щеками на улицу, аптекарь Карлос злобно шипел:
– Вон ползет наш удав; переваривает, что заглотал. Помяните мое слово: когда-нибудь он лопнет от жира!
Так оно и вышло. Покушав за ужином рыбы, священник приказал долго жить – в тот самый час, когда в доме напротив, у доктора Годиньо, праздновали именины хозяина и гости шумно отплясывали польку.