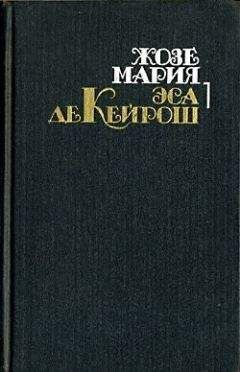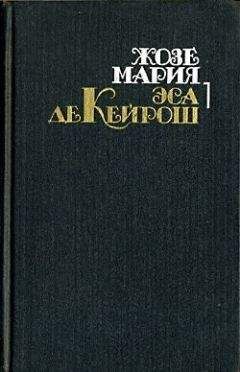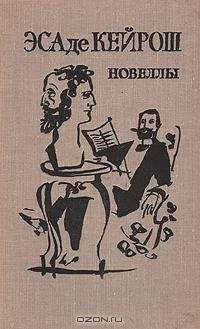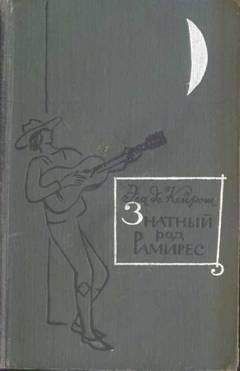Отсюда, с Нового моста, открывался широкий вид на мирные, окрестности Лейрии. Вверх по течению круглились невысокие холмы, поросшие темной щетиной краснолесья; внизу, среди молодого сосняка, рассыпались хутора, внося веселое разнообразие в этот исполненный меланхолии пейзаж; сияли на солнце беленные известкой стены; к светлому, словно свежевымытому, небу поднимались сизые дымы очагов. Ближе к устью, где речка медленно текла между низких берегов, отражая вереницу серо-зеленых плакучих ив, раскинулась широкая, плодородная равнина Лейрии, вся залитая светом, сверкающая прудами, ручьями и озерами. Город с моста не был виден, только выдавалась углом каменная стена собора и виднелась часть кладбищенской ограды, увитой плющом, да острые черные верхушки кипарисов. Все остальное было скрыто за крутым косогором, заросшим репейником и крапивой, а на самой его вершине темнели развалины древнего замка; по вечерам над полуобвалившимися стенами медлительно кружили совы. У въезда на мост можно было спуститься по откосу на тополевую аллею, так называемую Старую аллею, идущую вдоль берега реки. Именно в этом уединенном уголке, укрытом листвой вековых деревьев, и прогуливались двое священников, беседуя вполголоса. Каноник Диас рассказывал, что получил письмо от Амаро Виейры, и поверял коадъютору одну мысль, мысль поистине счастливую! В письме Амаро просил подыскать для него квартиру, недорогую, в удобном месте и, если возможно, меблированную, самое желательное – несколько комнат в каком-нибудь приличном семейном пансионе. «Вы сами понимаете, дорогой учитель, – писал Амаро, – что это вполне устроило бы меня. Ни в какой роскоши я не нуждаюсь; достаточно комнаты и небольшой гостиной. Но совершенно необходимо, чтобы дом был почтенный, спокойный, в центре города, чтобы у хозяйки был сносный характер и умеренные требования. Поручаю эти заботы вашему такту и житейскому опыту и прошу верить, что зерно вашей доброты не упадет на каменистую почву. Главное, чтоб хозяйка была спокойного нрава и не слишком болтлива».
– Так вот что я придумал, друг Мендес: не поселить ли его у Сан-Жоанейры? – заключил каноник. – Прекрасная мысль, а?
– Превосходная! – поддакнул коадъютор.
– В нижнем этаже у нее есть свободная комната с примыкающим к ней зальцем, а рядом еще одно помещение, которое может служить кабинетом. Дом хорошо меблирован, прекрасное постельное белье…
– Белье отличное! – почтительно подтвердил коадъютор.
Каноник, продолжал:
– И для Сан-Жоанейры это тоже выгодно: за квартиру, белье, стол и обслуживание она смело может просить шесть тостанов[12] в день. Не считая того, что соборный настоятель окажет ей честь, поселившись в ее доме!
– Это все верно. Только… Не расстроится ли дело из-за Амелиазиньи? – робко заметил коадъютор. – Не знаю, как на это посмотрят. Девушка молодая… Вы говорите, сеньор Виейра тоже молод. Вы сами знаете, ваше преподобие, как злы люди.
Каноник остановился.
– Что вы такое несете? Разве не живет падре Жоакин под одной крышей с крестницей своей матушки? А каноник Педрозо? У него поселилась невестка с сестрой – девушкой девятнадцати лет! Что вы выдумали?
– Да нет, я просто… – сразу отступил коадъютор.
– Нет, нет, не вижу тут ничего дурного. Сан-Жоанейра сдает комнаты жильцам; у нее все равно что гостиница. Ведь жил же там несколько месяцев секретарь Гражданского управления.
– Да, но теперь речь идет о духовном лице… – мямлил коадъютор.
– Тем спокойнее, сеньор Мендес, тем спокойнее! – воскликнул каноник и, снова приостановившись, доверительно продолжал: – И потом, это очень устраивает меня, понимаете? Меня. Мне это чрезвычайно удобно, дорогой Мендес.
Наступила короткая пауза. Затем коадъютор сказал, понизив голос:
– Да, вы сделали немало добра Сан-Жоанейре, сеньор каноник.
– Я делаю, что могу, дорогой мой, все, что могу, – отвечал каноник и, помолчав, прибавил с отеческой, теплой улыбкой: – И она того достойна! Она заслужила! Что эта за душа, друг мой! – Он улыбался, возведя глаза к небу. – Посудите сами: если бедняжка не видит меня утром ровно в девять часов, она уже сама не своя! «Голубушка моя, – говоришь ей, бывало, – вы напрасно волнуетесь!» Но она просто места себе не находит. Как вспомню прошлый год, когда у меня сделалась колика… Она даже осунулась от тоски, сеньор Мендес! И какое трогательное внимание! Если у них режут поросенка, то лучшую часть уж непременно приберегут для «нашего святого отца», можете себе представить? Она так меня называет.
Глаза его блестели от умиления.
– Ах, Мендес, – заключил он, – это превосходная женщина!
– И притом весьма красивая! – почтительно вставил коадъютор.
– Не говорите! – вскричал каноник, снова остановившись. – Не говорите! И как сохранилась! Ведь она уже не девочка… Но ни одного седого волоска, ни единого! Какая кожа! – И, понизив голос, он прибавил, плотоядно хихикнув: – А тут? Мендес, тут! – Он делал округлые движения, медленно водя пухлой рукой по воздуху около своей груди. – Совершенство! И опрятна, удивительно опрятна. Но главное – любезность, внимание… Дня не пройдет, чтобы я не получил какого-нибудь угощеньица: то баночку повидла, то рисовый пудинг, то кровяную колбасу по-арокски. Вчера прислала яблочный пирог. Жаль, вы не видели: начинка нежнее сбитых сливок. Даже сестрица Жозефа сказала: «Начинка такая, будто яблочки в святой воде варились!»
Старый священник прижал к груди растопыренные пальцы.
– Подобные мелочи глубоко трогают сердце, Мендес. Нет, что говорить: другой такой женщины нет и не было.
Коадъютор слушал в завистливом молчании.
– Я отлично знаю, – продолжал каноник, снова останавливаясь и слегка растягивая слова, – я отлично знаю, что по городу ходят всякие сплетни и пересуды… Злостная клевета! Просто я всей душой привязан к этому семейству. Дружил еще с ее покойным мужем. Вы сами знаете, Мендес.
Коадъютор кивнул.
– Сан-Жоанейра порядочная женщина. Вы поняли, Мендес? Она порядочная женщина! – При этих словах каноник повысил голос и с силой стукнул по земле зонтом.
– Чего не скажут злые языки, сеньор каноник, – посочувствовал коадъютор; затем, немного помолчав, тихонько прибавил: – А только ведь для вашего преподобия это чистое разорение.
– То-то и есть, милый мой! Поймите: с тех пор как секретарь Гражданского управления от них съехал, у бедной женщины не осталось ни одного жильца. Я даю им деньги на пропитание, Мендес!
– У нее как будто усадебка своя имеется? – заметил коадъютор.
– Э, какая там усадебка! Клочок земли. К тому же десятина, поденная плата работникам. Вот я и говорю: новый соборный для нее истинная находка. Он будет платить ей шесть тостанов в день, кое-что я подкину, прибавьте к этому выручку от усадебного сада – и уже можно свести концы с концами. Для меня это большое облегчение, Мендес.
– Конечно, все легче, сеньор каноник! – согласился коадъютор.
Оба замолчали. Спускался прозрачный, тихий вечер; высокое небо отливало бледной голубизной, воздух был недвижен. Посреди обмелевшей к концу лета реки поблескивали песчаные отмели; вода едва струилась, слабо плеща вокруг темневших на дне круглых камней.
Две коровы под охраной девчонки-пастушки появились на глинистой тропинке, бегущей по другому берегу вдоль полосы кустарников; животные медленно вошли в реку и, вытянув натертые ярмом шеи, стали беззвучно пить; время от времени они поднимали головы, смотрели добрыми глазами вдаль, с миролюбивым и покойным удовлетворением, и капли воды и слюны, блестя на солнце, падали у них с морд. Солнце заходило, вода постепенно теряла свою зеркальную чистоту, тени мостовых быков становились все длинней. С холмов надвигалась полоса сумерек, облака над далеким морем окрашивались сангиной и охрой, предвещая на завтра жаркую погоду. День пышно догорал.
– Чудесный вечер, – пробормотал коадъютор.
Каноник зевнул и, крестя рот, сказал:
– Пора читать «Аве Мария», а?
Когда они всходили по ступеням собора, каноник приостановился и, обернувшись к коадъютору, сказал:
– Так решено, дружище Мендес: я устрою Амаро у Сан-Жоанейры. Это подойдет нам всем.
– Наилучшим образом! – поддакнул коадъютор. – Наилучшим образом!
И оба, осенив себя крестом, вошли в церковь.
Прошла неделя, и в городе стало известно, что новый настоятель прибудет на Шан-де-Масанса с вечерней почтовой каретой. С шести часов каноник Диас и коадъютор прохаживались по Фонтанной площади, поджидая падре Амаро.
Стояли последние дни августа. На длинном прибрежном бульваре, покрытом макадамом[13] и обсаженном тополями, мелькали светлые платья дам. За аркой, где тянулись вереницы бедняцких лачуг, старухи, сидя на крыльце, жужжали веретенами; грязные голопузые ребятишки возились посреди улицы в пыли, вместе с курами, жадно клевавшими что-то в остатках навоза. Около фонтана было людно и шумно; стучали о его каменный борт днища кувшинов, бранились кухарки; солдаты в запыленных мундирах и тяжелых сбитых сапогах напропалую ухаживали за девицами, поигрывая тростинкой или прутиком. Молодые женщины, поставив на голову, на плоской круглой подушечке, пузатый кувшин с водой, расходились, покачивая бедрами; два офицера в расстегнутых мундирах лениво переговаривались, поджидая, кого Бог пришлет с вечерним дилижансом. Дилижанс запаздывал. Стало темнеть; в нише над аркой уже затеплили лампадку у ног святого, а напротив, одно за другим, тускло засветились окна больницы.