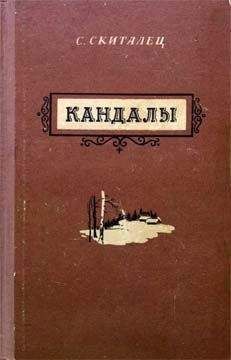— А что?
— Волнение пошло в народе… шатание ума! Почитай что в каждой избе дети с отцами на ножах — палачутся! На сходе стон стоит! Разбились на партии, и каждая, значит, свою линию гнет! Чуть не до драки! Зашевелился народ — обедняли все, озлились. Земский начальник разжигает: если шапку перед ним не снимут — человек по двадцать в арестанку сажает. Да у нас сроду никто не ломает шапки ни перед кем, окромя своих. Урядник парней да девок с улицы разгоняет — песни петь не велит! Вот оно и тихо. А внутри — кипит у каждого!
Ему не хотелось говорить громко, и он все ближе и дружелюбнее наклонялся к писателю.
— Какие же у вас на сходе партии? — улыбкой спросил Бушуев.
— Да оно не на сходе только, а везде и во всем. Само собой, особо вредная для всех партия — это земский начальник, старшина с писарем, урядник да попы: на них все восстают! Ну, не ладят с ними, конешно, учителя и учительницы министерских школ, а против этих учителей опять же преподаватели учительской семинарии духовного ведомства, которая церковноприходские школы обслуживает: видал каменный дом с крестом над вывеской? Насильно за наш счет начальство выстроило. А мужики ото всей своей бедности строят свои школы, да и на тебе! С ума сошли! Больницу выстроили! В семинарии все учители — попы. Ну, не любит их народ. Попы теперь то же, что полиция. Но самая главная партия — это мужики, куда и мы с Челяком примыкаем. Мужики тоже разделяются: есть еще «трезвенники», мужицкая молодежь, эти горячатся очень, а мы умеренные — ведем линию исподволь.
Он помолчал, окинул собеседника испытующим взглядом умных, но уже тусклых глаз, расчесал пальцами бороду и другим тоном сказал:
— Сразу-то все не расскажешь… вот поживешь у нас — все узнаешь!
Вышла жена Алексея — пожилая, но еще сохранившая следы красоты, высокая, худощавая, вся в черном, в старинной повязке углами. Поклонилась гостю глубоким поясным поклоном и певуче заговорила:
— Милости прошу к нашему шалашу! гость нежданный, да желанный… чайком побаловаться! Уж ты, гостюшка, на нас не обессудь: каково житье — таковы и еда да питье!.. Пей-ка, попей-ка, а на дне копейка! Имечко-то ваше как?
— Клим Иваныч!
Приветливо улыбаясь, она передала Климу стакан.
— У кого рубль плачет, а у нас и копейка скачет! — заметил Алексей и обернулся к жене. — Вот прислали к нам на житье хорошего человека — хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь, а пришлось ехать.
— Да ведь, говорят — Москва бьет с носка, Москва слезам не потатчица! — нараспев продолжала она, разливая чай.
— Ничего, я сюда с удовольствием проехался! — возразил гость.
— Да ведь как говорится? Выпала поро́ша — дорожка хороша — садись, поезжай! — пела хозяйка.
— А по-моему, — вторил муж, — закрутило-замутило: где кого захватило — тот там и сиди!
— Это вернее! — подтвердил Клим.
Все засмеялись.
Бушуев невольно улыбался, слушая эту музыку староволжского языка, полузабытого им в городской жизни.
— Ну, а как живет Челяк? Я ведь незнаком с ним, только слышал от товарищей, что это — деревенский революционер?
— В обрез живет! — Оферов покрутил головой. — На посевах прогорел. Мельницу продал, пивную держал, да из нее политический клуб получился — закрыли. Хе-хе!.. Теперь только садом живет, сад у него за рекой хорошо разросся. Сын в Париже — в дело вышел, помирились, кажись. Неулыбов мотался на постройке дороги, но, видимо, не больно много заработал. Бог-то бог — да и сам не будь плох! Страховым агентом теперь — двести рублей в год получает — разве это дело? Ну, отец поддерживает — корову привел. Старик-то у купца хутором заведует. Без жалованья — так оно выгоднее — натурой получает. Своя рука — владыка, повар с голоду не умирает, ну и сыну кое-что привезет иной раз. Все мы хуже стали жить.
Он вздохнул.
— Аренда кончилась — делать нам нечего здесь. Я вот пайщик мельницы на том берегу — тем и живы. Мы еще — туды-сюды, а вот мужикам — плоховато. Из года в год засуха, неурожаи, а земли — кот наплакал! Торговля пала. Волга мелеет. Иной год всей округой голодали! Диву, бывало, даешься: в голодные зимы по всей ночи в кулачном бою дрались до озверения. Урядник приезжал верхом на коне — унимать!.. Неулыбов этот, куда мы хотим тебя на квартиру определить, в старом обгорелом доме в задних комнатах с женой да мальчишкой жмутся. На второй он женился, на вдове — мальчишка у них. Вот и с руки было бы тебе: вместе с новым доктором, не скучно будет!
Глухой рассказывал бесстрастно, ровным голосом, медленно прихлебывая чай. Жена его, сжав тонкие красивые губы, молча слушала.
В коридоре стукнула дверь, послышались тяжелые быстрые шаги, и на пороге комнаты, на момент остановившись, появился Челяк — низенький, цилиндрический, в сером толстом пиджаке и тяжелых сапогах. Борода его, прежде каштановая, стала сероватой, да маленькие оловянные глаза выпучились с заметной напряженностью.
Оферов, познакомив их, в коротких словах рассказал все дело.
— Квартиру ему надо!
— Не в том сила, что кобыла сива! — оживленно возразил Челяк. — Нам самим это на руку, вот!
— Вам-то как? — удивился Бушуев.
— А как же? Да нам только тебя недоставало! В самый раз приехал! То есть до зарезу нужно нам писателя — во как! Ну, чтобы лютой был! А тебя-то мы знаем, получаем газету.
Все удовлетворенно засмеялись.
Офериха сочувственно улыбалась, наливая Челяку крепкого чаю.
Он уселся против писателя, налил блюдечко до краев, но прежде чем пить — разгладил широкую бороду, сгреб ее на одну сторону и, пытливо посмотрев на него, спросил:
— Будешь посылать отсюда статейки али фельетончики?
— Буду.
— Може, и в столичных газетах при случае тиснешь?
— Могу и в столичных.
— Здорово! — Он ткнул в бок сидевшего рядом Оферова.
— Слышал? Теперича мы «их» припугнем! Уж одно то, что он приехал, подействует!
— Подожмут хвост, — уверенно подтвердил Алексей, — ежели под хвост им перцу!
— И без перцу подошло к сердцу! — добавила Офериха.
Они оба бережно и хозяйственно осмотрели писателя, как новую, только что выписанную и необходимо нужную машину.
Потом озабоченно принялись толковать о том, согласится ли Неулыбов пустить ссыльного на квартиру.
— Пустит! — уверенно сказал Челяк.
— Наверно! — подтвердил глухой, — а ежели будет заминаться — уговорим!
Заговорили о сельском сходе, о сельских общественных Делах, о земском начальнике, о новом враче, о попах.
— Врач у нас — он всем хорош, — говорил Челяк. — Действительно можно сказать — деятель, и народ полюбил его! Главное дело, сам он из крестьян здешнего же села, отца-то его все мы хорошо знаем! Ну, только одно — идеалист, мягок характером, а мужику ину пору и крутое словечко загнуть не мешает!
— С попами деликатничает! — добавил Оферов, — ну, да — внове он здесь, обойдется!
Челяк вскочил и взволнованно забегал по комнате, громыхая сапогами.
— В прошлый раз, — начал он, остановясь, — встречается мне на площади поп Матюшинский — самый главный из них ябедник — и говорит: «Что это я тебя никогда в церкви не вижу? Что ты, молоканин али еще какой веры? И потом, говорит, дошло до меня, будто ты разные бредни мужикам болтаешь, умствуешь относительно священных таинств и прочее? Это как? Ты смотри у меня!» — «Я, говорю, батюшка, не молоканин, а только что в церковь хожу, когда есть к тому мое желание и опять же время, а загонять меня туда силой — что толку? Что же касаемо разговоров с мужиками — то, конечно, мы, мужики, обо всем промежду себя говорим, а понятия ни об чем по глупости нашей не имеем. Вы бы, говорю, как пастырь духовный, должны объяснить нам, наставлять нас! Я, мол, и то вот все собираюсь спросить вас: растолкуйте мне, как надо понимать таинства: что — все они равны между собой или нет?» Он подумал и — строго таково — говорит: «Конечно, все равны, а тебе — что до этого?» — «Да как же, говорю: коли все равны, расценка-то у вас им разная: за исповедь берете две копейки, а за свадьбу пятнадцать рублей! Коли все равны, то все бы их и пустить по две копейки!» Как он закричит на меня! Посохом застучал. «Подлец, говорит, ты, а не прихожанин! Как смеешь издеваться над таинствами?» — «Я, говорю, не издеваюсь, я с ваших же слов говорю!» — «Я, говорит, тебя…» — «Да куды, мол, вы, батюшка, меня из мужиков-то можете разжаловать? Ниже-то мужика куды можете поставить?»
Челяк, довольный собой, захохотал, и на выпученных глазах его мелькнули слезы.
— Сплавить бы его! — заметил Оферов, — больно смутьян и доносчик! Один над другим норовят все выслуживаться перед архиереем да повышение в чинах получить! И все за счет мужичишек! Староверов ловят, обыскивают, книжки запрещенные старого письма отбирают, с жандармами перенюхиваются: недавно отобрали отпечатанные на гектографе сочинения Льва Толстого «Евангелие» и «В чем моя вера?». Тоже и раскольники теперь портиться стали, а в попы ни один порядочный человек не пойдет нынче: так — пройдохи. Не в попы, так в полицейские!