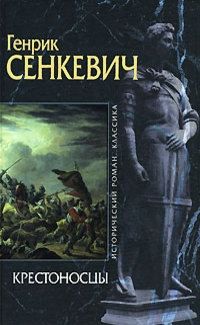– А знаешь, что я думаю? – сказала она как-то пани Бигель. – Очень легко счастливой быть, надо только бога бояться.
– А какая тут связь? – спросила пани Бигель, которая, как и муж, любила отчетливость в суждениях.
– А такая: довольствоваться тем, что он дает, и не надоедать ему просьбами о том, что нам кажется лучше, – ответила Марыня весело. – Не нудить, не нудить!
И обе женщины рассмеялись.
Преувеличенное беспокойство Поланецкого о жене по-прежнему выдавало, что сильней всего заботит его ожидаемый ребенок, но Марыня на него больше не обижалась. По правде говоря, не обижалась и раньше, но сейчас готова была счесть даже за особую добродетель: ведь теперь первейшая их обязанность, думала она, заботиться о будущем ребенке, предмете их общей любви. И с каждым днем, в чем-то себе отказывая, все меньше думая о себе, становилась спокойней и умиротворенней, и это отражалось в ее чудесных глазах. И в главном, ожидаемом тоже приготовилась она смириться с волей божьей, хотя и побаивалась немного мужа.
– Стах, ты не побьешь меня, если у нас будет сын? – шутливо спросила она у него однажды.
– Нет, – засмеялся он, целуя ей руку. – Но мне хотелось бы иметь дочку.
– А пани Бигель говорит: мужчины всегда предпочитают мальчиков.
– А я хочу девочку.
Однако не всегда она бывала в таком веселом расположении. Иногда приходило на ум, что можно умереть, такие случаи бывают, она знала – и горячо молилась, чтобы с ней этого не случилось. Смерти она боялась, и уходить не хотелось, даже в рай, ведь здесь все обещало мир и любовь. И, наконец, думалось ей, Стах будет по ней тосковать. И при мысли об этом становилось так жалко его, точно он уже сейчас пренесчастнейший из людей. С ним она своими страхами не делилась, но ей казалось, что он и сам иногда об этом думает.
Но она глубоко ошибалась. Акушерка, еженедельно навещавшая Марыню, заверяла ее и Поланецкого, что все благополучно, и у него не было оснований опасаться за жизнь жены. Его тревожило другое, о чем Марыня, к счастью для себя, не догадывалась и в чем он сам боялся до конца себе признаться. С некоторых пор стал он замечать упущения в своем жизненном балансе, которым был так горд и в котором черпал уверенность в себе. Еще недавно почитал он свою житейскую философию неким домом из толстых бревен, покоящимся на прочном фундаменте, и с тайным превосходством взирал на тех, кому не удалось соорудить ничего подобного. Словом, уважал в себе лучшего мастера житейского обустройства. Работа окончена – остается лишь веселиться и отдыхать! Но он забыл, что душа человеческая – как птица: взлетев, надо усиленно работать крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Иначе малейшее искушение – и упадешь на землю.
Досада была тем сильней, что соблазн был низменный и пошлый. Предмет искусительной страсти – сама посредственность и страсть грубая, не извиняющая даже в собственных глазах. Так или иначе дом дал трещину. Став человеком верующим, причем по убеждению, Поланецкий отнюдь не хотел вступать в сделку с совестью, ублажать себя: дескать, и праведники не без греха. Нет! Логика подсказывала: «Или – или», и, будучи человеком прямодушным, он не мог не соглашаться с этим. И хотя пока не поддался соблазну, злился, что он вообще явился, заставив усомниться в себе. Привыкнув считать себя лучше других, Поланецкий теперь задался вопросом: а вдруг он хуже – ведь искушение не просто возникло, он чувствовал, что на сей раз может и не устоять.
Наблюдая Основскую, нередко вспоминал он изречение Конфуция: «У заурядной женщины ума столько, сколько у курицы, у незаурядной – сколько у двух кур», – но при виде Терезы Машко ему приходило в голову, что в применении к некоторым даже эта возмутительная, китайская пословица звучит еще похвалой. Сказать, что она откровенно глупа, значило бы еще признать за ней какое-то индивидуальное отличие. А она была никакая. Усвоившее десяток-другой расхожих правил благопристойное ничтожество. Как обитателям Новой Гвинеи двухсот-трехсот слов довольно для общения и удовлетворения своих потребностей, так и ей достаточно этих правил, чтобы жить, рассуждать и вращаться в обществе. В остальном была она крайне апатична и сверх того тупо самодовольна – от умственной ограниченности и слепой убежденности в том, что, автоматически следуя известным правилам, никогда не ошибешься. Такой знал он ее еще девушкой и не раз смеялся над ней, называя куклой, манекеном, не в силах простить ей смерти доктора, сгинувшего из-за нее где-то на краю света. Он не любил и презирал ее. Но даже тогда, встречаясь с ней у Бигелей или заходя к ним домой по просьбе Машко, испытывал к ней физическое влечение и прекрасно это сознавал. Это угасшее, сонно-безразличное лицо, замороженность манер, стройный стан и даже воспаленные глаза – все неудержимо влекло его к ней. Поланецкий объяснил это себе законом естественного подбора и, подыскав научный термин, успокоился, тем более что Марыня произвела на него еще более сильное впечатление, которому он и поддался. Но Марыня была теперь его женой, и он перестал замечать ее красоту, которая на время увяла; обстоятельства же складывались так, что из-за частых отлучек Машко Поланецкий почти ежедневно виделся с Терезой, и давнее впечатление не только ожило, но вследствие теперешнего Марыниного положения ожило с нежданной силой. И вот он, не пожелавший быть «оселком» для Основской, несравненно более красивой и привлекательной, он, устоявший перед ее римскими фантазиями, считавший себя человеком строгих правил, который превосходит многих волей и умом, понял вдруг, что шевельни Тереза пальчиком – и воздвигнутое им здание пошатнется и рухнет ему на голову. За всем тем Поланецкий не переставал любить жену – он был к ней искренне и глубоко привязан, но чувствовал, что способен изменить ей, и не только ей, но себе, своим принципам, представлениям о нравственности и честности. С ужасом и негодованием обнаружил он в себе зверя, для укрощения которого у него недоставало сил. И эта слабость тревожила его, бесила, но невозможно было с ней совладать. Самое простое было бы не видеться или видеться как можно реже, но он, напротив, выискивал предлоги встречаться как можно чаще. И вначале пытался прикрываться ими от самого себя, но врожденная честность не позволяла, и кончилось тем, что он себя же ругательски ругал. Но перед женой и посторонними они служили благовидным оправданием. В обществе же Терезы нельзя было удержаться, чтобы на нее не смотреть, фигура ее и лицо так и притягивали взгляд. С нездоровым интересом гадал он, как бы она себя повела и что сказала, не сдерживай он своей страсти, и разохочивал себя ее предполагаемой податливостью. Он заранее ее за это презирал, но вместе с тем она становилась для него еще желаннее. Так обнаружил он в себе бездну порочности, приписав ее долгому пребыванию за границей, и стал сомневаться в собственном моральном здоровье и неиспорченности. Или же это необъяснимое влечение к малопривлекательной женщине – признак какого-то невроза, незаметно подтачивающего организм? Что мужчина может женщину презирать, но зверь, живущий в нем, вожделенно желать, не приходило ему в голову.
Женский инстинкт, заменявший Терезе Машко проницательность, скоро все сказал ей; да она и не была столь наивна, чтобы не понимать, что выражает его взгляд, скользящий по ее стану, глаза, у стремленные на нее в у пор, особенно когда они оставались наедине. Сначала это льстило ее самолюбию – так самой высоконравственной женщине льстит, если она нравится, привлекает внимание, если желанней других, словом, покоряет. К тому же она не видела и не хотела видеть опасность, как куропатка, которая головой зарывается в снег, когда над ней кружит ястреб. Снег ей заменяли приличия. И Поланецкий чувствовал это. Еще холостяком узнал он по опыту, что для некоторых женщин главное – соблюдение известных условностей, подчас весьма странных. Знавал он таких, которые возмущались, если сказать им по-польски то, что они с улыбкой выслушивают по-французски. Встречал и таких, которые у себя дома, в городе, были точно неприступные крепости, а за городом, на водах и курортах, быстро сдавались; таких, которые действия предпочитали словам, и даже таких, для кого решающее значение имело, светло или темно. И если нравственность не была изначально заложена в натуре, не привита, как оспа, женское поведение всегда зависело от случая, обстановки, от внешних, часто пустячных обстоятельств, от того, что понимается под приличиями. Это, полагал он, в полной мере относилось и к Терезе Машко, и лишь потому не предпринимал пока никаких попыток, что боролся с собой, своим искушением, и, презирая ее в глубине души, не хотел сам быть достойным презрения в собственных глазах. Останавливали и привязанность к Марыне, сострадание к ней, ее положению, с которым он не мог не считаться, умилявшее его ожидание отцовства, сознание, что они так недавно поженились, порядочность и религиозное чувство. То были цепи, которые сдерживали проснувшегося в нем зверя.