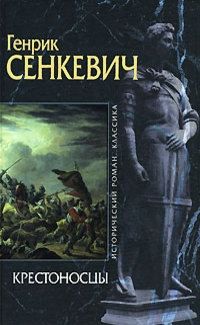После обеда явился Коповский, бывавший почти ежедневно, и оказался на даче единственным, кому известие о помолвке не доставило никакого удовольствия.
В первую минуту невольное изумление изобразилось на его лице.
– Вот никогда бы не поду мал, что панна Линета согласится пойти за пана Завиловского, – сказал он.
Основский, подтолкнув Завиловского, подмигнул ему с плутовской миной.
– Видишь? Говорил я тебе вчера, что он к Линете неравнодушен.
Лишь поздно вечером покинул Завиловский виллу Основских. Дома он, однако, не стихи сел писать, хотя внутри у него все так и пело многострунной арфой, а засел за корреспонденцию и счета, с которыми не сумел управиться днем.
В конторе это на всех произвело большое впечатление, и когда Бигели явились к Основским с ответным, а к пани Бронич – с первым своим визитом, Бигель не преминул высказаться по сему поводу.
– Стихи пана Завиловского вы имели возможность оценить, а вот какой он добросовестный человек, наверно, не знаете. Говорю об этом потому, что в наше время это большая редкость. Пробыв тогда у вас целый день и не попав в контору, он вечером пришел, велел ночному сторожу открыть, забрал с собой книги, счета и дома сделал все, что нужно. Приятно сознавать, что имеешь дело с человеком, на которого можно положиться.
Но тут добропорядочный совладелец торгового дома «Бигель и Поланецкий» заметил, к своему удивлению, что эта высшая, по его мнению, похвала не производит должного впечатления.
– Ах, мы надеемся, пан Завиловский подыщет себе в будущем занятие, больше отвечающее его дарованию и положению, – заметила пани Бронич довольно кисло.
Вообще обе стороны чувствовали себя во время визита несколько скованно. Правда, Линета Бигелям понравилась, но, уходя, он шепнул жене: «Как, однако, роскошно они живут!» Обитатели дачи показались ему людьми, чья жизнь – непрестанное празднество, то есть вечное безделье; но он не обладал способностью быстро выражать свои мысли.
– Да, да!.. Люди, безусловно, хорошие! – повторяла после их ухода тетушка Линете. – Да! Прекрасные люди! Я убеждена. Да! Конечно!..
Она словно чего-то не договаривала, но «Лианочка» поняла.
– Ведь они ему не родня, – сказала она.
Но спустя несколько дней откликнулась и родня. Завиловский, который так и не попросил у старика прощения, несмотря на тетушкины уговоры, получил письмо такого содержания:
«Господин Забияка! Напрасно ты на меня накинулся, я не хотел тебя обидеть, просто привык говорить, что думаю, – мне, старику, это простительно. А тебе, наверно, уже сказали, что я и в глаза не называю твою невесту иначе, как „венецианским бесенком“. Кто же тебя знал, что ты влюблен и собрался жениться. Я про то узнал только вчера и тут-то понял, почему ты чуть глаза мне не выцарапал; но поскольку забияки мне больше нравятся, чем размазни, а из-за подагры, будь она неладна, сам прийти не могу тебя поздравить, зайди к старику, который искренней к тебе расположен, чем ты думаешь».
Получив письмо. Завиловский в тот же день поспешил к старику. Тот принял его радушно, и, хотя без воркотни не обошлось, старый правдолюб на этот раз понравился Завиловскому, и в душе его отозвались родственные чувства.
– Благослови тебя бог и пресвятая богородица, – сказал ему старик. – Я мало тебя знаю, но наслышан, и рад был бы о других Завиловских услышать что-нибудь новое. – Он потряс его за руку и подмигнул дочери: – Гениальный, вот бестия, а? – Перед уходом же спросил гостя: – Ну, а Теодор? Препятствий тебе не чинил?
Завиловский рассмеялся; будучи художником, он обладал сильно развитым чувством юмора и комедию с Теодором тоже находил забавной.
– Нет. Напротив, он был на моей стороне.
Старик покачал головой.
– Да, он чертовски проницателен, этот Теодор! Будь с ним начеку, не то впросак попадешь!
Высокое положение в обществе и богатство старика Завиловского до того импонировали тетушке Бронич, что она на другой же день отправилась к нему с визитом, чуть ли не благодаря за оказанный родственнику любезный прием.
– Вы что, за бурбона меня считаете? – вспылил неожиданно старик. – Да, говорил, не отпираюсь: бедные родственники – наказание господне, а вы услышали и вообразили, будто я бедность ставлю им в вину. Плохо вы меня знаете! Обедневший шляхтич чаще всего пройдохой становится, вот что, да, примите это к сведению. Такой уж наш польский характер, вернее, наша бесхарактерность. А Игнаций, – это все в один голос говорят, – хоть и гол как сокол, а человек порядочный, за то его и люблю.
– Я тоже его полюбила! – ответствовала пани Бронич. – Так вы будете на обручении?
– C'est decide[56]. На носилках велю себя отнести, но буду!..
Тетушка вернулась в приподнятом настроении и за завтраком, не удержавшись, стала строить планы, которые подсказывало ей разыгравшееся воображение.
– Старик Завиловский – миллионщик, – говорила она, – и очень стоит за свою родню. Я ничуть не удивлюсь, если он – ну не все состояние, но приличную его часть – завещает нашему Игнацию. Или одно из своих имений на Познанщине на него перепишет. Да, ничуть не удивлюсь.
Ей никто не возражал: в жизни всякое бывает. И после завтрака она обняла Лианочку, шепнув ей:
– Ах ты, помещица моя!
А вечером повела разговор с Завиловским.
– Не удивляйтесь, что я во все мелочи вхожу, это так естественно, я ведь ваша мама. Так вот, хотелось бы мне знать, какое вы колечко выберете для Лианочки? Оригинальное, наверно, какое-нибудь? На помолвке столько народу будет. И потом, вы даже не знаете, как трудно этой девочке угодить. Она даже в мелочах такая взыскательная, у этой девочки есть вкус, о, еще какой!
– Я хочу, чтобы камни означали своим цветом веру, надежду и любовь. Ведь она – моя надежда, моя вера и любовь! – отвечал Завиловский.
– Прекрасная мысль! Вы уже говорили об этом с Лианочкой? Знаете что? Пусть в середине будет жемчужина в знак того, что она сама – жемчужина. Сейчас в моде всякие символы. Не помню, говорила я вам, что Свирский – художник тот, который давал ей уроки рисования, – называл ее «La perla»? Кажется, говорила. Вы с ним незнакомы? Вот и он тоже… Юзек сказал, он не сегодня завтра приезжает. Значит, так: сапфир, рубин, изумруд, а в середине жемчужина?.. Да, и Свирский тоже… А вы будете на похоронах?
– На чьих похоронах?
– Букацкого. Юзек сказал, Свирский его прах привезет.
– Я не был с ним знаком, ни разу его не видел.
– Тем лучше. Лианочка рада будет. Мне он, прости господи, никогда не был симпатичен, а Лианочка, та просто терпеть его не могла. Девочка довольна будет колечком, а мне большего и не надо.
А «девочка» довольна была жизнью, не только колечком. Роль невесты все больше нравилась ей. Настали чудесные ясные ночи, и они рядышком сидели на балконе, любуясь листвою в причудливом лунном свете, блуждая взором по усеянному звездными роями небосводу, по серебристой пороше Млечного Пути. Акация под балконом, как гигантская кадильница, источала дурманящий аромат. Все желания засыпали, а души, убаюканные тишиной, словно сливались с бездонным ночным простором, сами лучась его чистым светом, трепетным лунным сиянием. Так, рука в руке, сидели они в забытьи, полусне, отрешась от себя и бессознательно ощущая лишь всеобщее счастье бытия, всеобъемлющее sursum corda[57].
Очнувшись, возвращаясь к действительности, Завиловский понимал: такие мгновения, когда сердце преисполняется пантеистической любви ко всему и бьется в унисон с общим, единым гармоническим ладом всей вселенной, суть высшее счастье, которое, продлись оно, стало бы губительно в своей безмерности для одного человека. Но после смерти, с избавлением от телесной оболочки, мгновения эти сольются в вечность – так он, идеалист в душе, представлял себе потусторонний мир, где ничто не исчезает и все монады человеческие соединяются, связуются в общей гармонии.
Линета не могла воспарить так высоко, но тоже упивалась головокружительным полетом его чувств, тоже была счастлива. Женщина, даже не любя другого, любит его любовь и самое себя, свою роль в ней и оттого с радостью переступает порог супружества, благодарная мужчине, который открывает перед ней новые жизненные горизонты. А Линете столько твердили про ее любовь, что в конце концов убедили в этом.
И когда Завиловский спросил ее однажды, уверена ли она в себе, своей любви, она в ответ простерла к нему обе руки, словно от избытка чувств.
– О да! Теперь я не сомневаюсь, что люблю!
Он, как святыню, поднес ее тонкие пальчики к губам, глазам, ко лбу, но ее слова встревожили его.
– Почему же «теперь»? – спросил он. – А раньше ты разве когда-нибудь сомневалась?
Панна Кастелли подняла свои черные глаза и задумалась; потом улыбка тронула ее губы и на щеках обозначились ямочки.
– Нет, – сказала она, – но я страшная трусиха, мне боязно было. Вас любить и какого-нибудь обыкновенного человека – совсем не одно и то же, я ведь понимаю. Ох, с Коповским было бы все simple comme bonjour![58] – вдруг рассмеялась она. – Но с вами!.. Я не умею этого сказать, но мне всегда казалось, это все равно что взбираться на высокую гору или на башню. Взберешься – и видно все далеко вокруг, но перед тем надо идти, идти, а я такая лентяйка!..