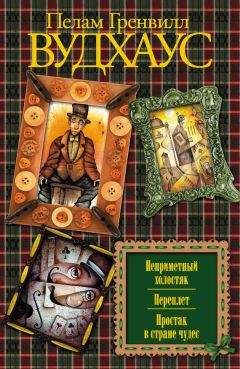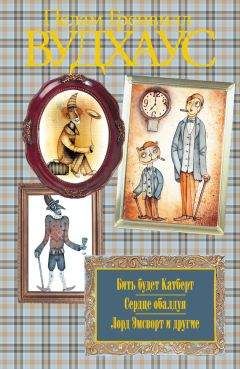– Огромный отхвачу куш!
– Сразу видишь, что она…
– Тысячи и тысячи долларов. А уж тогда…
– Поэт писал про одну девушку: «ступила робкой ножкою на грань, где встретились река и ручеек, прекраснейшее место…».
– Да, и тесто тоже, – согласно покивал Уоддингтон, – но самая большая беда – сладкое. Если женщина запихивает в себя столько пудингов, например хоть сегодня, так обязательно наберет вес. Уж сколько ей твердил…
Что мистер Уоддингтон намеревался сказать, навсегда останется еще одной тайной истории. Едва он набрал воздуха, как приотворилась дверь и на пороге возникло лучистое видение. Хозяин оборвал фразу на середине, а сердце гостя, кувыркнувшись три раза, стукнулось о передние зубы.
– Мама просила посмотреть, что с тобой, – сказала Молли.
Уоддингтон постарался приосаниться и совсем немного не дотянул до благородного, достойного вида.
– Ничего, душенька, со мной не сталось. Урвал минутку спокойно побеседовать с моим молодым другом…
– Папочка! Какие могут быть сейчас беседы? В доме полно важных гостей.
– Подумаешь! Важные! – фыркнул Уоддингтон. – Сборище отвратных пузанов. Там у нас, на Западе, их вмиг бы линчевали за один внешний вид!
– Особенно тобой интересовался мистер Брустер Бодторн. Он хочет сыграть с тобой в шашки.
– А ну его к лешему! – величаво изрек Уоддингтон.
Молли, обняв отца за шею, ласково его поцеловала, что исторгло у Джорджа страдальческий всхлип, похожий на захлебывающийся вскрик тонущего пловца.
– Папочка! Не капризничай. Ступай наверх и будь с ними полюбезнее. А я останусь здесь и развлеку мистера…
– Его имя – Пинч, – подсказал Уоддингтон, нехотя поднимаясь и направляясь к двери. – Познакомились с ним на тротуаре. В штате, где мужчины – это мужчины. Попроси, пусть расскажет тебе про Запад. Заслушаешься! Очень, очень занимательно. Прямо заворожил меня своими историями. Решительно заворожил. А меня зовут, – несколько непоследовательно заключил он, нашаривая дверную ручку, – Сигсби Хорейшо Уоддингтон. И плевать мне, пусть хоть весь свет про то знает!
Главный недостаток человека застенчивого – то, что в кризисные минуты жизни он абсолютно не походит на того смелого и предприимчивого храбреца, каким рисуется себе в одиноких мечтаниях. Джордж Финч, очутившись в ситуации, какой так часто жаждал – наедине с нею, – почувствовал, что истинное его «я» подменил какой-то неуклюжий дублер.
Тот, кого он знал по захватывающим своим мечтаниям, был потрясающе обаятелен, раскован, остроумен и красноречив. Да что там говорить, он был красив! И необыкновенно добр. Умен – вне всякого сомнения, это сразу становилось ясно, и не в той холодной, рассудочной манере, столь модной в наши дни. Какими бы искрами ни блистал его разговор, было очевидно, что человек он сердечный и, несмотря на все свои дарования, не чванлив. Притягательно блестят глаза, губы складываются в чарующую, обаятельную улыбку, руки изящны и прохладны, а накрахмаленная грудь рубашки ни капельки не топорщится. Короче, воображаемый Джордж был истинным воплощением девичьих грез.
И как же отличался от него этот препротивный субчик, застывший на одной ноге в библиотеке дома № 16! Во-первых, он явно не причесывался несколько дней, редко мыл руки и отчего-то весь напыжился. Вдобавок брюки у него пузырились на коленках, галстук съехал к левому уху, а накрахмаленный перед рубашки топорщился будто грудь нахохлившегося голубя. Да-а, тошнотворная картинка!
Однако внешность, как известно, еще не все. Если б эта жалкая личность умудрилась блеснуть хоть десятой долей того остроумия, каким блистал воображаемый Джордж, кое-какие обломки крушения еще можно было бы спасти. Так нет же! Этот жалкий недотепа еще и онемел! Он только и мог покашливать, прочищая горло. Попробуй завоюй сердце хорошенькой девушки хрипловатым покашливанием!
Лицу, как он ни старался, придать никакого мало-мальски сносного выражения не удавалось. Когда он попытался изобразить обаятельную улыбку, получилась кривоватая усмешка. А когда усмешку убрал, лицо застыло в зловещем оскале.
Однако больше всего терзала душу Джорджа неспособность выдавить хоть слово. После ухода Уоддингтона протянулось едва ли секунд шесть, но Джорджу казалось, что прошло не меньше часа. Подхлестнув себя, он сипло выдавил:
– Я не Пинч.
– Да? – живо откликнулась девушка. – Как забавно!
– И не Уинч.
– О-о! Еще увлекательнее!
– Я Финч. Джордж Финч.
– Замечательно!
Казалось, она и вправду обрадовалась, поскольку сияла улыбками, словно он принес ей добрую весть из дальних стран.
– Ваш отец, – продолжал Джордж, не решаясь развивать тему, но и не в силах бросить ее, – решил, что я Пинч. Или Уинч. Но это не так. Моя фамилия Финч.
Взгляд его, нервно скачущий по комнате, ненароком задел Молли, и он до крайности изумился, не различив в ее глазах потрясенного омерзения, какое должны бы вызвать его внешность и речи у любой здравомыслящей девушки. Да, она удивлялась, но смотрела на него довольно ласково, даже по-матерински, и слабенький проблеск света забрезжил во тьме. Сказать, что он взбодрился, было бы чересчур, но в окутывавшей его ночи на секундочку проблеснула одинокая звезда.
– А как вы все-таки познакомились с папой?
Ответить Джордж смог. Отвечать на вопросы он был вполне в силах. Вот придумывать темы – иное дело.
– Встретил его у вашего дома. Он узнал, что я с Запада, и пригласил меня к обеду.
– То есть как это? Он что, накинулся на вас, когда вы проходили мимо?
– Н-нет… Я не то чтобы проходил… Я… э… в общем-то я стоял у крыльца. Во всяком случае…
– У крыльца? Но зачем?
Уши его превратились в два спелых помидора.
– Я… это… шел, в общем… в гости.
– В гости?
– Да.
– К маме?
– Нет, к вам.
– Ко мне? – Глаза девушки округлились.
– Да. Я хотел спросить…
– О чем же?
– О вашем песике.
– Не понимаю…
– Подумал… вдруг из-за нервной встряски… всех этих переживаний… он прихворнул.
– Из-за того, что убежал?
– Ну да…
– И вы решили, что он нажил нервный срыв?
– Тут такое движение… – лепетал Джордж. – Его могла машина переехать… Страшно все-таки. Нервы… то-се…
Женская интуиция – поразительнейшая штука. Скорее всего любой психиатр, дослушав до этого места, прыгнул бы на Джорджа и, прижимая его к полу одной рукой, другой подписал бы необходимое свидетельство. Но Молли проникла в самую суть и умилилась. Она поняла: этот молодой человек столь высокого мнения о ней, что, несмотря на всю свою болезненную застенчивость, все-таки решился проникнуть в дом под идиотским предлогом. Словом, она еще раз убедилась, что Джордж – сущий ягненочек, и ей захотелось погладить его по голове, поправить сбившийся галстук, поворковать над ним.
– Как мило с вашей стороны!
– Я люблю собачек, – хрипло выдавил Джордж.
– Это видно.
– А вы собачек любите?
– Просто обожаю!
– И я тоже. Обожаю.
– Да?
– Да. Обожаю. Некоторые их не любят, а вот я люблю.
На Джорджа напало красноречие. Блеснув глазами, он с головой нырнул в волны истинной литании.
– Да. Люблю! Эрдельтерьеров, и скотчтерьеров, и сэлихемских терьеров. Фокстерьеров. И пекинесов, и абердинцев. Мопсов люблю, и мастифов. Далматинцев тоже. Потом еще водолазов и сенбернаров. Люблю пуделей, маленьких шпицев…
– Все понятно! – перебила Молли. – Вы любите всяких собак.
– Да, – подтвердил Джордж. – Люблю. Очень. Всяких.
– И я тоже. Есть в них что-то такое…
– Есть. Конечно. И в кошках…
– Да, правда?
– И все-таки кошки не собаки.
– Да, я тоже заметила…
Наступила пауза. Страшно страдая – ведь на этой теме он мог бы и еще развернуться, – Джордж сообразил, что для Молли предмет исчерпан, и застыл в задумчивом молчании, облизывая губы.
– Значит, вы приехали с Запада? – поинтересовалась она.
– Да.
– Там, наверное, красиво.
– Да.
– Прерии всякие…
– Да.
– А вы не ковбой?
– Нет. Я художник!
– Художник? Пишете картины?
– Да.
– И у вас есть студия?
– Да.
– А где?
– Да. То есть на Вашингтон-сквер. В доме «Шеридан».
– «Шеридан»? Правда? Тогда, наверное, вы знакомы с мистером Бимишем?
– Да. Да. Конечно.
– Он такой милашка, правда? Я знаю его всю жизнь.
– Да.
– Наверное, это увлекательно – быть художником?
– Да.
– Мне бы очень хотелось посмотреть ваши картины. Теплое блаженство разлилось в душе Джорджа.
– Могу я прислать вам одну? – проблеял он.
– Конечно!
Джордж так воспрял от столь непредвиденного поворота, что невозможно и предугадать, к каким вершинам красноречия он воспарил бы, побудь еще минут десять в обществе девушки. То, что она готова принять его картину, их очень сблизило. Еще ни один человек не брал его картин. И впервые с начала беседы Джордж почувствовал себя почти свободно.