У Ландика мороз прошел по коже. Страх охватил его: в Старом Месте его так хорошо знают. И ни во что не ставят из-за Анички… Но он хоть увидит ее, поговорит… И Аничка засияла перед ним вечерней звездой. Она замерцала на небе, он увидел ее блеск, и политика убралась в темную подворотню, растворилась во мраке. Перед чудесной сияющей уверенностью поблекла сумрачная неопределенность, страх сменился радостью. Он не верил тому, что говорил дядюшка о перспективах для него, но верил в свои мечты.
— Не вдавайся ни в какие теории, — поучал Петрович, — можешь поговорить разве что о вере в бога. Господь бог в деревнях еще ходкий товар. Особенно он пользуется кредитом у стариков и женщин. На работу в поте лица сильно не напирай. Это непопулярно. Работа — не идеал. Было б распрекрасно, если б платили за безделье. С этим ты, разумеется, тоже особенно не вылезай. Свои выступления старайся строить таким образом, чтобы там, где работы нет, обещать большое государственное пособие безработным, а где работы хватает, говорить, что мы выступаем за сокращение рабочего дня и за высокую заработную плату.
«Но это же не наша программа», — вдруг сообразил Ландик, мысли которого вернулись из Старого Места к дядюшке.
— В данный момент наша программа — получить побольше голосов. Берем из каждой программы то, что особенно нравится народу. От католиков — папу, от протестантов — Лютера, от патриотов-радикалов — национализм, от капиталистов — священное право собственности, от социалистов — национализацию и обобществление имущества; мы превозносим технику и одновременно разбиваем машины, от которых один вред, преклоняемся перед демократией, когда одна партия добивается победы, чтобы командовать остальными. Мы — та серединка, та река с золотым дном, которая несет свои воды между враждующими берегами, подмывая то правый, то левый.
— Красиво говорите, дядюшка, — не удержался Ландик.
«Славный малый».
Похвала привела Петровича в хорошее расположение.
— Поступай, как я, — подбодрил он Яника, — возводи, закладывай фундаменты, корчуй, ругай и раздавай. Обещания выполним, только если массы пойдут за нами.
— А можно немножко побунтовать?
— Только так. Разве ты не читал речь нашего премьера? «Чем значительнее задачи, стоящие перед земледельцем в свободном государстве, тем прекраснее его духовное развитие, тем дороже нам память о крестьянских бунтах. Без крестьянских бунтов невозможна была бы национальная свобода».
— Это когда было-то. Теперь бунты ни к чему, повредили бы только свободе.
— Свободы, как и жизни, никогда не бывает в избытке, но я имел в виду лишь манеру твоего выступления, — поправился Петрович, — я хотел сказать, что тебе необходимы теплота, эмоции, воодушевление, которые ты переливал бы из своей души в чужие. Бесстрастный рассудительный тон хорош только для парламента. Повторяю: главное — победа цифры. И никогда не кричи «Да здравствует такой-то и такой-то!». Помни о номере. Да здравствует четверка! И смотри не перепутай, говори бодро и серьезно. Можешь и попеть.
Затем Петрович рекомендовал Ландику быть осторожным в выборе песен; уже вставая и протягивая на прощанье руку, он словно между прочим рассказал, как однажды какой-то болван на песенку «Четыре козы» откликнулся «пятый козел», а на «Пырибыри» — что партий «пять, а может, шесть у него на выбор есть».
— Ты причинил бы партии непоправимый ущерб, если б вздумал прославлять нашу плодовитость таким образом: «В одном углу четверо, а в другом — пятеро, тут тебе, душа моя, всех девятеро», или наше трудолюбие: «Четыре руки сделают больше двух», или же нашу скромность: «Где четверо прокормятся, прокормится и пятый», или нашу хозяйственность: «Четырех обойду, пятому ничего не дам»; храни тебя бог ляпнуть нечаянно из детской считалки: «…четырех кошек убил, пятую не смог…»
— «…Пришел кот и помог», — докончил Ландик, фыркнув от смеха.
— Будь осторожен, — прокричал ему вслед Петрович, когда Ландик уже спускался по лестнице, — не соблазнись примером «Дважды два — четыре!».
Получив таким образом наставление, Ландик быстро освоил программный горшок с кашей и отправился оделять ею деревни. Он решил, что сулить золотые горы не будет и постарается, насколько это в его силах, оказывать помощь крестьянам и хотя бы записывать жалобы и наблюдать настроения. Заметив, что где-то народ уже взвыл от притеснений, подвоет людям и он.
Ландик прибыл в чудесную страну: за последний месяц в ней было построено уйма — пока что, правда, воздушных — кооперативов, почт, жандармских постов, получены опылители и сельскохозяйственные машины, закуплены тысячи гектаров леса, выдано колоссальное количество векселей под низкие проценты, аннулирована половина долгов и все просроченные платежи по налогам, прекращены судебные взыскания, появилось самоуправление, которое отремонтировало за государственный счет все католические храмы и часовни, отправились ко всем чертям не оправдавшие надежд чиновники, уволенные нотары, начальники, шоферы, а все остальные восторженно улыбались, были чрезвычайно предупредительны, внимательны, вежливы, кланялись тяжущимся, пожимали им руки, усаживали и, стараясь не проронить ни слова, выслушивали и самого нестоящего человечка. Учреждения вели дела быстро и дешево, не требуя тридцати документов — о рождении, крещении, гражданстве, национальности, прежнем месте работы, о количестве детей, нравственности, политической благонадежности и о высшем образовании, чтобы гражданин мог быть допущен подметать полы в какой-нибудь государственной канцелярии. Новые окружные центры росли как на дрожжах, они были уже во всех выселках. Все деревни были опоясаны сетью железнодорожных путей, асфальтовых шоссе. Поставили плотины на Дунае, Ваге, Нитре, Гроне, Турце, Житаве, Иппеле, на всех речках и ручейках, вплоть до Торисы и Бодвы; задымили фабричные трубы, ну, и само собой, были построены обсерватория и подвесная дорога на Ломницкий пик. Англичане валом валили на самую высокую точку в республике, чтобы в бинокли полюбоваться видом прекрасного края, где все люди сыты, не питают зависти друг к другу и работают немного, но хорошо.
Особенно население было взволновано известием, что сельничане и в самом деле получили обещанные четыре вагона круп и четыре вагона фасоли. Доходили вести и из других деревень, что у них в самом деле ходят четыре сапожника и снимают с избирателей мерку для сапог. Кое-где будто в четыре раза увеличили число продовольственных карточек. В Турском записали неимущими и таких, которые имели по четыре морга поля, если их обрабатывали только четыре руки. В Маркованах цены на продкарточки поднялись с десяти крон до двадцати, потому что какой-то торговец в городе давал на них товара в четыре раза больше. В Святом Ондрее давали задаток по четыре кроны за голос, еще четыре обещали в день выборов и еще четыре — после голосования и подсчета голосов. В Заречье все избиратели получили по четыре пачки табаку.
Не только сельничане, кочковане, обсоловчане, но почти весь край охотнее всего прислушивался к речам «четверочников», которые придерживались самых надежных директив: снабжать, подкармливать, набивать рты, задабривать. В этом сквозила такая материнская забота, что избиратели как благодарные дети припадали к заботливой матери под номером четыре.
Ландик убедился в этом в Сельнице, куда он явился выяснить настроения жителей. В корчме, читая газету, он услыхал негромкий разговор решетника Речицы и вздорного скептика Замочника.
— Ну, ты, фофан, — честил Речица Замочника, — чуть было нам все дело не загубил своим «пять, шесть у меня на выбор есть!». А сейчас крупу задаром получил.
— Подумаешь! — брюзжал Замочник. — В Корчковцах зарезали свинью, и каждому по полкило сала досталось.
— Тебе кашу нечем подмаслить?
— В Обсолицах давали рыбу на ужин.
— Тебе, может, морских раков захотелось, как министру?
— Крупа, — презрительно выпятил губы Замочник, — раньше давали гуляш и пиво, сигарами угощали, а нынче крупа. Не торовато. А каша мне уже обрыдла.
— За твой дурацкий голос и крупа хороша, — вскипел Речица, — это ж самая лучшая партия.
— Которая? — притворился Замочник.
— Сколько пакетов ты получил?
— Четыре мешочка.
— И не знаешь! Сколько было в каждом?
— По четыре кило.
— Ну и… дурак ты.
— Ааа, — как будто только сейчас сообразил Замочник, — «пырибыри, пырибыри». Этот пан с бородой, как обожженный кирпич?
— Во-во-во.
— Ничего, — зачмокал губами Замочник, словно сардинку съел, — подходящий. Прислал бы хоть шкварок к этой крупе.
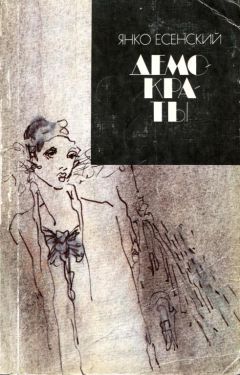

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


