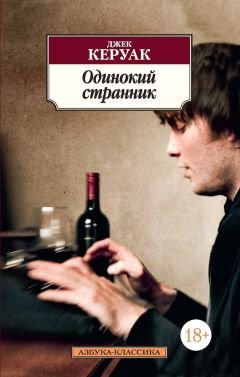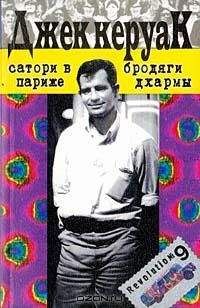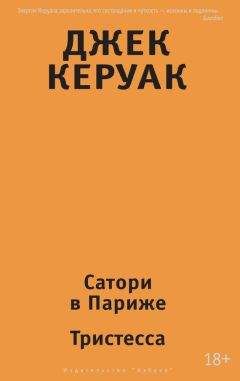ему напомнил о Параклете [84]), и он продолжал разглагольствовать о славе Арморики (древнее имя Бретани,
ar — «на»,
mor — «море»), и тогда я ему сказал с тире мысли или дефисом:
«C’est triste de trouver que vous êtes malade, Monsieur Lebris» (произносится Лебрисс), «Грустно обнаружить, что вы больны, мсье Лебри, но радостно видеть, что вас окружают ваши любимые, поистине, в чьем обществе я бы всегда желал находиться».
Все это на вычурном французском, и он ответил: «Хорошо сказано, к тому ж красноречиво и элегантно, в той манере, кою нынче не всегда понимают» (и тут мы как бы подмигнули друг другу, поскольку оба поняли, что сейчас пустимся беседовать, как два напыщенных мэра или архиепископа, просто смеху для и испытать мой великосветский французский), «и мне совершенно не стыдно сказать, перед моей семьей и друзьями, что вы ровня тому идолу, кой сообщил вам вдохновение» (que vous êtes l’égale de l’idole qui vous a donnez votre inspiration), «если подобная мысль вас утешит, вас, кто, несомненно, не нуждается в утешении от тех, кто вам служит».
Подхватив: «Но, certes, мсье, ваши слова, словно укрытые цветами шипы Генриха Пятого Английского, обращенные к бедной маленькой французской принцессе, и прямо перед его, Ох вот я, ее дуэньей, не дабы поранить, но, как выражаются греки, губка с уксусом во рту есть не жестокость, а (опять же, как мы это знаем на старом Средиземном море) мера, убивающая жажду».
«Ну, разумеется, если выражать таким образом, я не стану больше приводить никаких слов, но, в немощи своей понять пределы моей вульгарности, но, то есть поддержанный вашей верой в мои недостойные старания, достоинство нашего обмена словами понимается, надо думать, херувимами, однако сего недостаточно, настолько достоинство, отталкивающее слово, и теперь, прежде чем — но нет, я не потерял нить своих помыслов, мсье Керуак, он, в превосходстве своем, и превосходство это, заставляющее меня позабыть обо всем, о семье, о доме, о сословии, в любом случае, губка с уксусом убивает жажду?»
«Так греки говорят. И, если мне будет позволено продолжить изъяснять все мне известное, уши ваши утратят тот отиозный вид, кой сейчас на себе несут. У вас, не перебивайте меня, слушайте».
«Отиозный! Словцо для старшего инспектора Шарло, дорогой Анри!»
Писателя французских детективов не интересует мой отиозный, да и одиозный мой тоже, но стараюсь сообщить вам стильную репродукцию того, как мы разговаривали и что вообще происходило.
Очень не хотелось мне покидать этот милый одр.
А другое тут, залейся бренди, будто я не мог выйти и купить себе сам.
Когда я сообщил ему девиз моей праотеческой семьи — «Aimer, Travailler et Souffrir» («Любовь, труд и страдание»), он сказал: «Мне нравится про любовь, что ж до труда, у меня от него грыжа, а страдание во мне вы сейчас сами видите».
Прощай, Кузен!
P.S. (И щит был: «Синий с золотыми полосами, сопровождаемыми тремя серебряными гвоздями».)
В сумме: В «Armorial Général de J. B. Riestap, Supplement par V. H. Rolland: LEBRIS DE KEROUAC—$5anada, originaire de Bretagne. D’azur au chevron d’or accompagné de 3 clous d’argent. D — AIMER, TRAVAILLER ET SOUFFRIR. RIVISTA ARALDICA, IV, 240».
И старый Лебри де Лудеак, он уж точно увидит Лебри де Керуака снова, если только кто-то из нас, или мы оба, не умрем. Что, напоминаю я моим читателям, возвращается к: Зачем менять себе имя, если только чего-то не стыдишься.
Но я так заворожился старым де Лудеаком, и ни единого такси снаружи на улице Сиам, что пришлось спешить с этим семидесятифунтовым чемоданом в одной лапе, перебрасывая его из лапы в лапу, и я опоздал на свой поезд в Париж на, считайте, три минуты.
И пришлось ждать восемь часов до одиннадцати в кафе вокруг вокзала. Я говорил стрелочникам с сортировки: «Хотите сказать, я опоздал на этот парижский поезд на три минуты? Вы, бретонцы, чего это хотите, оставить меня тут?» Сходил к блокам тупика и прижался к смазанному цилиндру, поглядеть, не даст ли, и дал, поэтому теперь я хотя письмо написать смог (вот будет день) обратно тормозным кондукторам Южной Тихоокеанской железной дороги, теперь начальникам поездов и отставникам, что во Франции сцепляются иначе, что, видать, звучит, как неприличная открытка, но это же правда, но, лязгфигачь его, я десять фунтов сбросил, пока мчался из ресторана Юлисса Лебри на вокзал (одну милю) с этим баулом, ладно же, на хрен, сдам баул в багажное и стану пить восемь часов.
Но, отшпиливая ключ от своего чемоданчика из «Маккрори» (на самом деле он был из «Мартышкина Вора»), я сознаю, что слишком напился и рассвирепел, и замо́к не отомкну (я ищу свои успокоительные, которые, согласитесь, мне уже нужны, в чемодане), ключ пришпилен, согласно маминым наставлениям, к одежде. Целых двадцать минут я стою на коленях в багажном отделении Бреста, Бретань, пытаясь заставить крохотный ключик отомкнуть запор с защелкой, все равно дешевка, а не чемодан, наконец в бретонской ярости я ору: «Ouvre donc maudit!» (ОТКРЫВАЙСЯ, ЧЕРТ БЫ ТЯ ДРАЛ!) и ломаю замок. Слышу смех. Слышу, кто-то говорит: «Le roi Kerouac» (король Керуак). Я такое слыхал не из тех ртов в Америке. Снимаю синий вязаный галстук из вискозы и, вынув пилюлю-две и завалявшуюся фляжку коньяку, жму на чемодан со сломанным замком (сломался только один) и оборачиваю вокруг галстук, затягиваю один полный оборот, потуже, а потом, уже схватив конец галстука зубами, тяну, придерживая узел средним (он же некультурный) пальцем, умудряюсь обмотать один конец галстука вокруг другого, зубом натянутого, конца, продеть в петлю, главное не дергаться, затем приблизить свои огромные скалящиеся зубы к чемодану всея Бретани, пока я его чуть не целую, и бам!, рот тянет в одну сторону, рука в другую, и штука эта перевязана туже вечнолюбящего сына тугожмотой мамаши, либо сукина сына, во кого.
И я сваливаю его в багажное отделение и получаю свою багажную квитанцию.
Почти все время болтая с большими тучными бретонскими таксистами, я вот чему в Бретани научился: «Не бойся быть большим, толстым, будь собой, если ты здоровый и жирный». Те здоровые жирные канальи-бретонцы переваливаются повсюду, точно последняя летняя боевая блядь ищет себе первого клиента. Костыль киянкой не загонишь, говорят Пшеки, ну, по крайней мере, Стэнли Твардович [85] так говорил, который другая страна, я ее никогда не видел. Гвоздик еще можно, но не костыль.
В общем, нарезаю я кренделя по округе, сколько-то вздыхаю,