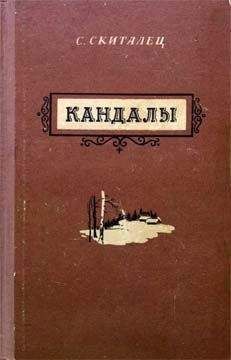Вукол ощутил знакомую судорогу, пробежавшую по его губам. Ерунда! Интеллигентское самоунижение! Что в сущности происходило? Он боролся со слепым великаном, обманутым негодяями. Ведь завтра же все выяснится: одновременно с мошенническим манифестом организованы всероссийские погромы интеллигенции, чтобы обезглавить народ. Многие будут на куски растерзаны наемной пьяной сволочью! Полиция будет молча руководить избиением лучших людей, чтобы их кровью затушить огонь революции.
— Гля-ка! Гля-ка! — вскричал возница, показывая кнутом в проулок. Вукол поднял голову.
С гулким топотом и руганью пробежали новобранцы с кольями в руках, не заметив, как мужик оттолкнул от своей двери светловолосую девушку, молившую спрятать ее.
Но в это время из-за угла выбежал старик огромного роста и побежал за девушкой: в руках его был овчарный нож.
— А! Ты слободы захотела! Я те покажу слободу! — взревел он, бросаясь за ней. Вукол издали видел только ее светлые волосы и короткую распахнутую драповую кофточку: зверем взвизгнул Вукол, — не видя лица девушки, он узнал ее.
— Сашенька! — звенящим голосом крикнул он.
Все произошло очень быстро, как во сне: дед Лукьян Романев бежал за девушкой с ножом в руке, Сашенька поворотила навстречу Вуколу, Вукол вот-вот сейчас заслонит собою Сашеньку, но… не успел, Сашенька упала навзничь, и белые волосы покрыли ее лицо. Вукол наклонился к ней: какой-то черный предмет торчал в груди ее. Тяжкий удар все перевернул в его голове, в глазах потемнело, сердце замерло, земля закружилась.
…Казалось, что шагает он по степной дороге, а сзади бежит Лавр в дырявом полушубке, без шапки, шлепая босыми ногами по мягкой пыльной дороге, слезы двумя ручьями текут из глаз его.
— Воротись! Воротись! — жалобно говорит он. Сердце Вукола обливается чем-то терпким и горячим. Вукол оглядывается: это не Лавр, это Сашенька протягивает к нему руки, а из груди ее торчит черная рукоятка ножа.
…Раззолоченный, залитый огнями зал полон публикой. В голове Вукола стоит странная, тупая боль и гул от шума толпы. Он на эстраде. Берет скрипку… Смычок прильнул к струнам, шум толпы обратился в прекрасные звуки. Голос пел:
С лица любимой снял он светлый локон
И тихо молвил, глядя на него:
Вот все, что мне теперь осталось…
Слова были несвязны, но именно в этом заключалось сказочно-волшебное, сладостно-безумное. Потом все умолкло, исчезло, наступила тьма.
Сельская интеллигенция разбежалась и попряталась. Одни спрятались удачно, но многие были разысканы и жестоко избиты. Отыскивали спрятавшихся в банях, погребах, на задворках и гумнах, в хворостей сене, вытаскивали оттуда. Загоняли в ледяную воду в реке, по полчаса держали там, а потом били. Охотились за беглецами в садах, за околицей, в степи и, догнав, били.
Через несколько часов преследования, ловли и избиения учителей, учительниц и семинаристов толпа погромщиков вновь собралась в кучу к дому Челяка: сколько не искали его — хитрый Челяк словно сквозь землю провалился, оставив на произвол судьбы дом со всем имуществом.
— Разгромить все его поганое гнездо! — кричала толпа, — от него вся зараза!
Из толпы вышли два новобранца, те самые, которые били Вукола, оба краснощекие крепыши в коротких рекрутских полушубках, подпоясанные красными кушаками.
Степенно и серьезно сняли они шапки и три раза истово перекрестились широким крестным знаменем. Потом надели шапки, поплевали на ладони и взялись за увесистые дубовые колья.
Один стал у одного окна, другой — у другого. Враз размахнулись — и грянули два мощных удара: затрещали рамы, зазвенели стекла.
Толпа радостно завыла.
А две благочестивые старушки стояли поодаль всего народа и, крестясь, набожно шамкали:
— Помоги вам бог, молодчики!
После полного разгрома дома Челяка — уже к вечеру — толпа черной сотни вместе с обманутыми ею людьми шла по длинной улице села и нестройными голосами пела ту же песню, с которой утром шла революционная демонстрация:
Вставай, подымайся, рабочий народ!
В конце октября 1905 года забастовочное движение пошло на убыль, зато крестьяне перешли к разгрому помещичьих усадеб. Всюду пылали казенные леса и «дворянские гнезда».
Бесправные, темные крестьяне боролись как умели — старинными, вековыми приемами, продиктованными старою ненавистью взбунтовавшихся рабов. Рубили, воровали, грабили и поджигали строевой казенный лес. Народный гнев дорого обходился не только помещикам, но и государству. Началось то, чего Лаврентий — как хороший хозяин — не хотел допускать: по его мнению, вместо революции могла произойти анархия.
От революции он требовал революционного порядка, законов, которым все должны подчиняться, но в жизни страны давно уже никто не признавал старых законов, а новых пока еще не было: сама жизнь, чтобы прекратить беззаконие, требовала немедленного появления хотя бы временной власти для создания новых порядков при новых законах.
Лаврентий оповестил восемнадцать волостей о необходимости экстренного крестьянского съезда, а пока, пользуясь своим влиянием, говорил на сходе, обращаясь к поджигателям:
— Вы не будете больше воровать и поджигать казенный лес, а также прежнюю нашу собственность — Дуброву: пусть по справедливости все это принадлежит вам — тем более вы должны беречи́ свое же достояние! Стыдно быть ворами того, что принадлежит народу!
В словах его, голосе и пристальном, подчиняющем взгляде заключалась теперь какая-то особенная сила: никто не мог выдержать подавляющего, а в минуты гнева — уничтожающего взгляда Лаврентия; железную узду надевал на всех этот человек, такой скромный и молчаливый прежде, чугунную руку опуская на плечо каждого, с кем говорил. Его распоряжения тотчас исполнялись, хотя многих тяготила такая непонятная требовательность. «Когда и поживиться, как не теперь?» — возражали ему, но по его настоянию сход взял государственный и бывший купеческий лес под мирскую опеку, поставил своих сторожей вместо удельных — и пожары лесов прекратились.
Его твердая уверенность в том, что нужно делать и чего не нужно передавалась всем: он не терялся, не колебался, и это создавало веру в него. Казалось, что он имеет дар предвидеть будущее, и поэтому ему беспрекословно подчинялись, хотя знали, что никакой власти еще не было у Лаврентия, кроме власти слова.
Эта власть, которой прежде не хотел и не имел Лаврентий, заключалась в глубоком знании души не только своих однодеревенцев, но и крестьян всех тех восемнадцати волостей, где имя его, поднятое людской молвой, вознесено было на необыкновенную высоту. Он знал, что в Займище — этой подгородной приволжской деревне, постоянно общающейся с двумя городами — уездным и губернским — народ стал много развитее, чем в глухих степных деревнях. И все же здесь был погром. Что же будет там, в степи? Между тем Лаврентий считал возможным в ближайшие месяцы или даже недели — внезапное вооруженное восстание рабочих в Москве, а потом и в губернских городах: в ближайшем приволжском губернском городе после царскою манифеста быстро сорганизовались боевые дружины, не допустившие черносотенного погрома.
Лаврентий, учитывая стихийное нарастание событий, считал нужным на этот случай в ускоренном порядке подготовить подчиненные ему восемнадцать волостей, вооружить их достаточным количеством оружия и выработать план действий: «На стихию надейся, а сам не плошай!»
Восстание рабочих в городе должно было явиться сигналом для подготовленных деревень, а сигналом для городов — восстание в Москве и московском районе: тогда готовность каждой ничтожной деревушки будет иметь свое значение и неготовые массы пойдут за передовыми. Ведь переросла же недавно частичная забастовка в великую всероссийскую? Почему же при революционном движении всей страны — от столиц до деревни — при организованном руководстве центра восстание одной волости не увлечет за собой восемнадцать волостей, а их пример не охватит всю Волгу, а может быть, и всю Россию? Какой соблазн поднять на ноги все крестьянство в деревнях вместе с рабочими в городах! Ведь тогда может совершиться великий переворот без пролития крови: не хватит казаков для усмирения миллионов восставших людей, главное орудие которых — труд! Тогда достаточно будет одного их слова, одновременно и дружно сказанного, чтобы вековечные кандалы рассыпались в прах.
Так думал Лаврентий. Его самого увлекала и пленяла эта фантастическая мысль о бескровном перевороте в великой стране при одном условии: магическом единодушии масс. И когда он говорил об этом на собраниях и с трибуны под открытым небом перед сотнями и тысячами людей, готовых пойти за ним, куда он поведет — хотя бы даже на смерть, — сердце его расширялось и голос становился могучим.