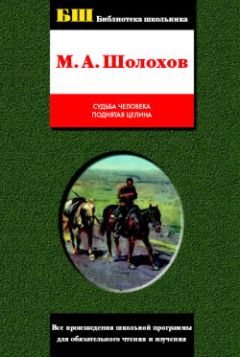– Пора мне ехать, загостился я у тебя, – сказал он, тяжело поднимаясь с сурчины.
– Ты не заболеть ли хочешь? – с тревогой спросил Давыдов. – Что-то ты сразу скис.
– А ты угадал, – невесело сказал Нестеренко. – У меня начинается приступ малярии. Давненько подцепил ее, в Средней Азии, и вот никак не избавлюсь от проклятущей.
– А что ты делал в Средней Азии? Какая нужда тебя туда носила?
– Уж не думаешь ли ты, что я туда за персиками ездил? Басмачей ликвидировал, а вот свою собственную, родную малярию не могу ликвидировать. Загнали мне ее доктора в печенки, теперь и радуйся на нее. Но это – между прочим, а напоследок вот что я хотел тебе сказать: контрики зашевелились у нас в округе, то же самое и у соседей, в Сталинградской области. На что-то еще рассчитывают, чертовы дуроломы! Но как это в песне поется? «Нас побить, побить хотели, нас побить пыталися…»
– «А мы тоже не сидели, того дожидалися», – досказал Давыдов.
– Вот именно. Но все же ушки на макушке надо держать. – Нестеренко раздумчиво почесал бровь и сердито крякнул: – Ничего с тобой не поделаешь, придется лишаться дорогой вещицы… Раз уже заковали с тобой дружбу, прими в подарок вот эту игрушку, пригодится в нужде. Нагульнов получил предупреждение, берегись и ты, а то можешь получить кое-что похуже…
Из кармана куртки он достал матово блеснувший браунинг второго номера, вложил его в ладонь Давыдова.
– Эта мелкая штука в обороне, пожалуй, надежнее слесарного инструмента.
Давыдов крепко стиснул руку Нестеренко, растроганно и несвязно забормотал:
– Спасибо тебе за товарищескую, как бы это сказать… ну, факт, что за дружескую заботу! Большое спасибо!
– Носи на здоровье, – пошутил Нестеренко. – Только, смотри, не потеряй! А то ведь старые вояки с годами становятся рассеянными…
– Пока жив – не потеряю, а если уж потеряю, то вместе с головой, – заверил Давыдов, пряча пистолет в задний карман брюк.
Но сейчас же снова достал его, растерянно взглянул сначала на пистолет, потом на Нестеренко.
– Неловко как-то получается… А как же ты останешься без оружия? Бери назад, не надо мне!
Нестеренко легонько отстранил протянутую руку.
– Не беспокойся, у меня в запасе второй есть. Этот был расхожий, а тот я блюду как зеницу ока, он у меня дарственный, именной. Я, что же, по-твоему, зря прослужил в армии и провоевал пять лет? – Нестеренко подмигнул и даже попытался улыбнуться, но улыбка вышла больной, вымученной.
Он снова зябко поежился, пошевелил плечами, стараясь побороть дрожь, с перерывами заговорил:
– А вчера мне Шалый хвалился твоим подарком. Был я у него в гостях, чаи гоняли с сотовым медом, рассуждали о жизни, и вот он достает из сундука твой слесарный инструмент, говорит: «За всю свою жизнь получил я два подарка: кисет от своей старухи, когда она еще в девках ходила и на меня, на молодого коваля, поглядывала, да вот этот инструмент лично от товарища Давыдова за мою ударность в кузнечном деле. Два подарка за всю длинную жизнь! А сколько я за эту прокопченную дымом жизнь железа в руках перенянчил, и не счесть! Потому-то эти подарочки и лежат у меня, считай, не в сундуке, а возле самого сердца!» Хорош старик! Красивую, трудовую жизнь прожил, и, как говорится, дай бог каждому принести людям столько пользы, сколько принес своими ручищами этот старый кузнец. Так что, как видишь, твой подарок куда ценнее моего.
К бригадной будке они шли быстрым шагом. Нестеренко уже колотила крупная дрожь.
С запада снова находил дождь. Низко плыли первые предвестники непогоды – рваные клочья облаков. Бражно пахло молодой травой, отсыревшим черноземом. Ненадолго проглянувшее солнце скрылось за тучей, и вот уже, ловя широкими крыльями свежий ветер, устремились в неведомую высь два степных подорлика. Преддождевая тишина мягким войлоком покрыла степь, только суслики свистели пронзительно и тревожно, предсказывая затяжной дождь.
– Ты отлежись у нас в будке, потом поедешь. Тебя же дождь в пути прихватит, измокнешь и вовсе сляжешь, – настойчиво советовал Давыдов.
Но Нестеренко категорически отказался:
– Не могу. В три у нас бюро. А дождь меня не догонит. Конь добрый подо мною!
Руки у него тряслись, как у дряхлого старика, когда он отвязывал повод и подтягивал подпругу седла. Коротко обняв Давыдова, он с неожиданной легкостью вскочил на застоявшегося коня, крикнул:
– Согреюсь в дороге! – и с места тронул крупной рысью.
Заслышав мягкий топот конских копыт, Куприяновна вывалилась из будки, как опара из макитры, горестно всплеснула руками:
– Уехал?! Да как же это он отчаялся без завтрака?!
– Заболел, – сказал Давыдов, провожая секретаря долгим взглядом.
– Да головушка ты моя горькая! – сокрушалась Куприяновна. – Такого расхорошего человека и не покормили! Хотя он, видать, из служащих, а не погребовал картошку со мной чистить, когда ты, председатель, дрыхнул. Он – не то, что наши казачишки, не чета им! От наших дождешься помочи, как же! Они только и умеют жрать в три горла да брехать на молодой месяц, а чтобы стряпухе помочь – и не проси! А уж какие ласковые слова говорил мне этот приезжий человек! Такие ласковые да подсердешные, что другой и ввек не придумает! – жеманно поджимая румяные губы, хвалилась Куприяновна, а сама искоса поглядывала на Давыдова: какое это произведет на него впечатление?
Тот не слышал ее, мысленно перебирая в памяти недавний разговор с Нестеренко. Однако Куприяновне, разговорившись, трудно было остановиться сразу, потому она и продолжала:
– И ты, Давыдов, чума тебя забери, хорош, хоть бы шумнул мне, что человек собирается в путь. И я-то, дура набитая, недоглядела, вот горюшко! Небось он подумает, что стряпуха нарочно схоронилась от него в будку, а я как раз к нему – со всей душой…
Давыдов по-прежнему молчал, и Куприяновна высказывалась без помех:
– Ты глянь, как он верхи сидит! Как, скажи, под конем родился, а на коне вырос! И не ворохнется, соколик мой, не качнется! Ну, вылитый казак, да ишо старинной выправки! – восторженно приговаривала она, не сводя очарованного взгляда с удаляющегося всадника.
– Он не казак, он украинец, – рассеянно сказал Давыдов и вздохнул. Ему стало как-то невесело после отъезда Нестеренко.
От его слов Куприяновна вспыхнула, как сухой порох:
– Ты своей бабушке сказки рассказывай, а не мне! Я тебе точно говорю, что он истый казак! Неужто тебе глаза залепило? Его издали по посадке угадаешь, а вблизу – по обличью, по ухватке, да и по обхождению с женщиной видать, что он казачьей закваски, не из робких… – многозначительно добавила она.
– Ну, пусть будет по-твоему, казак так казак, мне от этого ни холодно ни жарко, – примирительно сказал Давыдов. – А хорош парень? Как он тебе показался? Ведь ты же с ним, пока не разбудила меня, наверное, наговорилась всласть?
Теперь пришла очередь вздохнуть Куприяновне, и она вздохнула всей могучей грудью – да с таким усердием, что под мышкой у нее во всю длину шва с треском лопнула старенькая кофточка.
– Такого поискать! – помедлив, с глубочайшим чувством ответила Куприяновна и вдруг ни с того ни с сего яростно загремела посудой, бесцельно переставляя ее по столу, вернее, даже не переставляя, а расшвыривая как попало и куда попало…
Давыдов шел неспешным, но широким шагом. Поднявшись на бугор, он остановился, посмотрел на безлюдный в эту пору дня бригадный стан, на вспаханное поле, раскинувшееся по противоположному склону почти до самого горизонта. Что ни говори, а потрудился он эти дни во всю силу, и пусть не обижаются на него за чрезмерную нагрузку ни погоныч Варюха, ни Кондратовы быки… А интересно будет в октябре взглянуть на этот массив: наверное, сплошь покроют его кустистые зеленя озимой пшеницы, утренние заморозки посеребрят их инеем, а в полдень, когда пригреет низко плывущее в бледной синеве солнце, – будто после проливного дождя, заискрятся озими всеми цветами радуги, и каждая капелька будет отражать в себе и холодное осеннее небо, и кипенно-белые перистые облачка, и тускнеющее солнце…
Отсюда, издали, окруженная зеленью трав пахота лежала, как огромное, развернутое во всю ширь полотнище черного бархата. Только на самом краю ее, на северном скате, там, где близко к поверхности выходили суглинки, – тянулась неровная, рыжая с бурыми подпалинами кайма. Вдоль борозд тускло блистали отвалы чернозема, выбеленные лемехами плугов, над ними кружились грачи, и, словно одинокий подснежник, на черной пахоте виднелось голубое пятно: Варя Харламова бросила утратившую для нее теперь всякий интерес работу и, понурив голову, медленно брела к стану. А Кондрат Майданников неподвижно сидел на борозде, курил. Что ему еще оставалось делать без погоныча, когда с быками, вокруг которых роились тучи оводов, не было никакого сладу?
Увидев остановившегося на перевале Давыдова, Варя тоже остановилась, проворно сняла с головы платок, тихонько взмахнула им. Этот молчаливый и несмелый призыв заставил Давыдова улыбнуться. Он помахал в ответ кепкой, пошел уже не оглядываясь.