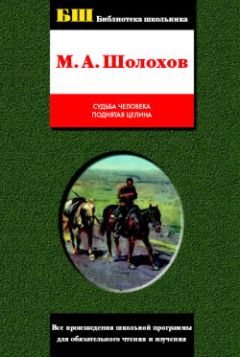Давыдов стыдил его, укоризненно покачивая головой, стараясь придать голосу наибольшую выразительность:
– Эх, Трофим, Трофим! Ведь ты уже старик, колхозный пенсионер, можно сказать, а глупости не бросаешь, кидаешься на всех в драку, а если не выйдет – начинаешь клянчить хлеба. Нехорошо так, даже стыдно, факт! Ну, что ты там унюхал?
Под кисетом и спичками Давыдов нащупал завалявшуюся в кармане черствую краюшку хлеба, тщательно счистил с нее присохшие крупинки табака и для чего-то понюхал сам, прежде чем протянуть на ладони скромное угощение. Козел, заискивающе и просительно склонив голову, смотрел на Давыдова дремучими глазами старого сатира, но краюшку еле-еле понюхал и, презрительно фыркнув, с достоинством сошел с крыльца.
– Не очень голоден, – не скрывая досады, сказал Давыдов. – Не был ты в солдатах, черт паршивый, а то бы сожрал за милую душу! Подумаешь, табачком сухарь малость попахивает, эка важность! Наверное, дворянской крови в тебе много, негодник, очень уж ты привередлив, факт!
Давыдов бросил сухарь, вошел в прохладные сени, зачерпнул из чугуна кружку воды и с жадностью осушил ее. Только теперь он почувствовал, как сильно устал от жары и дороги.
В правлении, кроме Размётнова и счетовода, никого не было. Размётнов, увидев Давыдова, заулыбался:
– Прибыл, служивый! Ну, теперь у меня гора с плеч! Морока с этим колхозным хозяйством – не дай и не приведи господь! То угля в кузнице нет, то чигирь на плантации сломался, то один идет с какой-нибудь нуждой, то другой волокется… Такая нервная должность нисколько для моего характера не подходит. Ежели мне тут посидеть бы ишо неделю, так я таким припадочным сделался бы, что со стороны любо-дорого посмотреть!
– Как Макар?
– Живой.
– Да я знаю, что живой, а как у него с контузией?
Размётнов поморщился:
– Ну, какая от пули может быть контузия? Не из трехдюймовки же по нему били. Ну, малость покрутил головой, смочил царапину водкой и в себя принял, что осталось в пол-литре после примочки, на том дело и кончилось.
– Где он сейчас?
– Поехал в бригаду.
– Так как же все это произошло?
– Проще простого: ночью Макар сидел возле открытого окна, а новый грамотей, дед Щукарь, по другую сторону стола. Ну, в Макара и урезали из винтовки. Кто стрелял – про то темна ночка знает, только одно ясно: у губошлепа винтовка в руках была.
– Почему же это ясно?
У Размётнова от удивления высоко взметнулись брови.
– Как же это «почему»? А ты бы промахнулся из винта на тридцать шагов? Утром мы нашли место, откуда он стрелял. По гильзе нашли. Сам вымерял: ровно двадцать восемь шагов от плетня до завалинки.
– Ночью можно промахнуться и на тридцать шагов.
– Нет, не можно! – горячо возразил Размётнов. – Я бы не промахнулся! Да ежели хочешь, давай испробуем: садись ночью там, где Макар сидел, а мне винтовку дай. С одного патрона я тебе дырку в аккурат между бровей сделаю. Стало быть, ясно, что стрелял какой-нибудь вьюноша, а не настоящий солдат.
– Ты давай подробнее.
– Все доложу по порядку. Около полуночи, слышу я, по хутору стрельба идет: один винтовочный выстрел, потом два поглуше, вроде как из пистолета, и опять – хлесткий, винтовочный, по звуку можно было определить. Я схватил из-под подушки наган, штаны на бегу натянул и выскочил на улицу. Бегу к Макаровой квартире: стрельба будто оттуда доносилась. Грешным делом подумал, что это Макар чего-нибудь чудит…
Домчался мигом. Стучусь в дверь – заперто, а слышно, кто-то в хате жалобно стонает. Ну, толкнул раза два плечом как следует, сломал дверную задвижку, вскочил в хату, спичку зажег. В кухне из-под кровати человеческие ноги торчат. Ухватился за них, тяну. Батюшки-светы, как завизжит кто-то под кроватью на поросячий манер! Меня даже оторопь взяла, но я все-таки продолжаю тянуть в том же духе и дальше. Выволок этого человека на середку кухни, а это оказался совершенно не человек, то есть не мужчина, а старуха хозяйка. Спрашиваю у нее, где Макар, а она от страху даже слова не выговорит.
Кинулся я в Макарову комнатенку, споткнулся обо что-то мягкое, упал, вскочил на ноги, а самого так и обожгло: «Значит, думаю, Макара убили, это он лежит». Кое-как зажег спичку, гляжу – дед Щукарь на полу валяется и смотрит на меня одним глазом, а другой закрыл. Кровь у деда на лбу и на щеке. Спрашиваю у него: «Ты живой? А Макар где?» А он своим чередом меня спрашивает: «Андрюша, скажи мне, ради бога, живой я или нет?» И голосок у него такой нежный да тонкий, как будто и на самом деле старик концы отдает… Тут я успокоил его, говорю: «Раз ты языком владеешь – значит, пока ишо живой. Но мертвежиной от тебя уже наносит…» Заплакал он горько и говорит: «Это у меня не иначе душа с телом расстается, потому и дух такой тяжелый. Но ежли я временно живой, то вскорости непременно помру: у меня пуля в голове сидит».
– Что за чертовщина! – нетерпеливо прервал Давыдов. – Но почему же у него кровь на лице? Ничего не понимаю! Он, что, тоже ранен?
Посмеиваясь, Размётнов продолжал:
– Да никто не раненый, обошлось. Так вот, пошел я, закрыл ставни на всякий случай, зажег лампу. Щукарь как лежал на спине, так и лежит спокойненько, только и второй глаз закрыл, и руки на животе сложил. Лежит, как в гробу, не шелохнется, ни дать ни взять покойник, да и только! Слабеньким, вежливым таким голоском просит меня: «Сходи, ради Христа, позови мою старуху. Хочу перед смертью с ней попрощаться».
Нагнулся я к нему, присветил лампой. – Размётнов фыркнул и с трудом сдержал готовый прорваться смех. – При свете вижу, что у него, у Щукаря то есть, сосновая щепка во лбу торчит… Пуля, оказывается, отколола у оконного наличника щепку, она отлетела и воткнулась Щукарю в лоб, пробила кожу, а он сдуру представил, что это пуля, ну и грянулся обземь. Без смерти помирает старик на моих глазах, а я от смеха никак разогнуться не могу. Ну, конечно, вынул я эту щепку, говорю деду: «Удалил я твою пулю, теперь вставай, нечего зря вылеживаться, только скажи мне: куда Макар девался?»
Гляжу, повеселел мой дед Щукарь, но вставать при мне что-то стесняется, ерзает по полу, а не встает… Однако чертов брехун и лежа мне голову морочит: «Когда, говорит, по мне враги стрельнули и вдарила меня пуля прямо в лоб, я упал как скошенный и потерял сознательность, а Макар тем часом потушил лампу, сигнул в окно и куда-то смылся. Вот она, говорит, какая промеж нас дружба: я лежу раненый, почти до смерти убитый, а он бросил меня на растерзание врагам и скрылся с перепугу. Покажи мне, Андрюша, пулю, какая меня чуть не убила. Ежли, бог даст, останусь живой – сохраню ее у старухи под образами на вечную память!»
«Нет, – говорю ему, – пулю я тебе показывать не могу, она вся в крови, и как бы ты опять не обеспамятел, увидав ее. Эту знаменитую пулю мы в Ростов отправим, в музей на сохранение». Тут старик ишо больше развеселился, проворно повернулся на бок и спрашивает: «А что, Андрюша, может, мне за геройское ранение и за то, что я такое нападение врагов перенес, и медаль какая-нибудь от высшего начальства выйдет?» Но тут уж досада меня разобрала. Сунул я ему щепку в руки, говорю: «Вот твоя „пуля“, в музей такая не годится. Клади ее под божницу и сохраняй, а пока топай к колодезю, обмывай свое геройство и приводи себя в порядок, а то несет от тебя, как от скотомогильника».
Подался Щукарь на баз, только я его и видел, а тут вскорости Макар явился, дышит, как запаленный конь, сел за стол и помалкивает. Потом отдышался, говорит: «Не попал в подлюгу! Два раза стрелял. Темно, мушки не видать, по стволу бил и – мимо. А он приостановился и ишо в меня ударил. Вроде за гимнастерку кто-то меня дернул». Оттянул Макар подол гимнастерки, и, на самом деле, с правой стороны гимнастерка у него повыше пояса пробитая пулей. Спросил я его – не угадал ли, мол, кто это? А он усмехнулся: «У меня глаза не совиные. Знаю только, что молодой человек, потому что уж дюже резвый! Пожилой так не побежит. Когда я за ним погнался – куда там! Его и конный не догонит». – «Как же, – говорю ему, – ты так рисково поступаешь? Кинулся вдогонку, не зная, сколько их? А ежели бы за плетнем ишо двое этаких ребят тебя ждали, тогда как? Да и один мог подпустить тебя поближе и урезать в упор». Но с Макаром разве сговоришь? «Что же, по-твоему, мне надо было делать? – говорит он. – Потушить лампу и под кровать лезть, что ли?» Вот и все, как оно было. У Макара от этого выстрела только один насморк остался.
– При чем тут насморк?
– А кто его знает, это он так говорит, а я сам удивляюсь. Ну чего ты смеешься? У него и на самом деле ужасный насморк после этого выстрела образовался. Течет из носа ручьем, а чихает очередями, как из пулемета бьет.
– Одна сплошная необразованность, – недовольно сказал счетовод, пожилой казак из бывших полковых писарей. Он сдвинул на лоб очки в потускневшей от времени серебряной оправе, сухо повторил: – Необразованность свою показывают товарищ Нагульнов, только и всего!