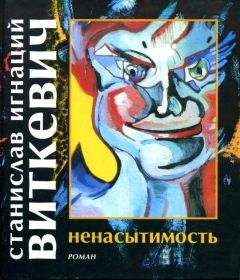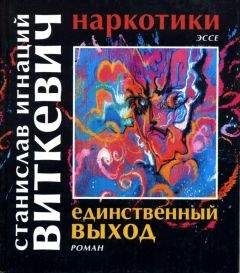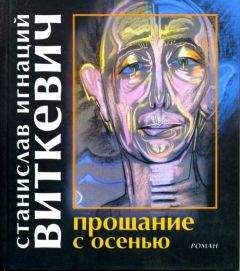Было два часа — самый поздний час ночи. Неведомая сила сперва повела его к училищу, как будто там было спасение. Но в спасении он не нуждался — было так хорошо, все складывалось чудесно — так зачем, зачем? — дьявол его знает!.. Моросил мелкий летний дождик. То, что в такую ночь могло быть до умопомрачения обыденным и неприятным (тишина вымершего города, мокрые улицы, душный воздух и этот провинциальный запашок — тепло-влажный, навозно-луковато-сладковатый), казалось чудеснейшим, необходимым, гармоничным, именно этим, а не иным. «Этость», а не «инаковость», — ах, что за чудо — ощущать абсолютную необходимость в том ужасающем государстве случайности и абсурда, каковым является н а г о е б ы т и е, вне фикций социальных законов, прикрывающих прямо-таки беззастенчивые сопряжения. Если б Зипка когда-нибудь принял хорошую дозу кокаина (к чему в минуты отчаяния склоняла его княгиня), он мог бы сравнить свое нынешнее состояние с легким отравлением этим ядом, с виду благородным, но требующим тяжких жертв.
Вдруг ужасный проблеск холодного сознания: «Я преступник — убил, не знаю кого и не знаю зачем. — Ах — да ведь не из-за нее же. Она, она...» — Чужое слово болталось среди прочих, столь же разрозненных, мертвых, лишенных смысла. «Неужели я этого никогда не пойму? Да — может, и пойму, как посадят лет на двенадцать. Но ведь китайцы... — перед ними никто не устоит...» Он мог думать так «biezstraszno» в ту ужасную минуту, ужаса которой был не в состоянии понять. Это был не он — а тот, только как-то странно и отвратно размякший, воплощенный во внешние формы того, давным-давно умершего мальчугана. Он с ужасом ощутил, насколько страшен сам факт бытия, даже самого безобидного — при таком подходе даже святые становились чудищами, которым не подберешь названия. «Все сущее отрицает принцип, на основании которого существует, — все опирается на невосполнимый метафизический ущерб. Будь я даже лучше всех на свете, я — лишь клубок борющихся друг с другом, бесконечно дробящихся сущностей — таким и останусь. Мир одинаково жесток как внутри индивида, так и вне его», — говорил когда-то пьяный Стурфан. Сегодня Генезип это понял — не логически, а живой своей кровью — ему казалось, что в его артериях-клоаках струится какая-то мерзкая, ядовитая, вонючая жижа. В мире не было ничего, кроме великой, паскудной нечистоты, и все-таки было хорошо. Он пренебрежительно махнул рукой. А значит — и он тоже, раз весь мир таков. Словно в памяти и н о г о «я» мелькнуло призрачное, бледное лицо Элизы и погасло, как фосфоресценция в глубинах черновато-зеленой воды. Осталось само чувство связи его преступления с чем-то равно преступным и неопределенным. К а к проявилась эта связь и откуда взялось это второе нечто — один черт знает. Пусть над этим ломают голову психологи. Однако, похоже, все можно свести к понятиям: определенной о к р а с к и качества как такового и, по Корнелиусу, «смешанного фона» (не замечаемого). Все равно — важно было, что Зипек неким странным образом насытился преступлением, причем так, что Перси, эта зарвавшаяся от успеха у самого Коцмолуховича мелкая каракатица, перестала для него существовать. Притом у него не было никаких, ну ни малейших угрызений совести. Этика? Вздор, сударь мой. Для шизофреника определенного типа все это пустые слова — существует только он один, и ничего кроме. «Чудесное лекарство от несчастной любви: убить кого-нибудь, совершенно не связанного с этой любовью, — какого-нибудь чужого дядьку — первого попавшегося прохожего». Ему вспомнился стишок какого-то никудышного псевдофутуриста — написанный давным-давно, еще при жизни Боя:
...И первому же прохожему, попавшему в поле зрения,
Хрясь дубинкой по лбу — второму? — тоже хрясь!
И вовсе никакое это не преступление.
Так что же это такое?
Да ничего, просто — хрясь:
Всего лишь ликвидация никому не нужных вещей
Без участия палачей...
Что было дальше, он не знал. Блеск сверхсознания, исходивший от шизофренических двойников, погас, а р я д о м с сознанием автоматически выстраивались нормальные мысли, какие пришли бы в голову всякому человеку в подобную минуту. Но они уже не сцеплялись (хо-хо — ничего не попишешь) с центрами моторики. Эти центры были во власти громилы со дна — одним ударом он захватил власть — исполнил нечто абсолютно новое, чему его никто не учил, — и заслужил награду. А если у тебя в руках чьи-то центры моторики, то ты и есть тот самый человек, и баста: умер Зипек — родился постпсихотический Зипон. Сам припадок — так называемый «Schub»[195] — длился всего секунду. Потом побочные мысли (но кому до них какое дело?) — Бог мой: да ведь этот верзила был как-то связан с Перси, с ее тайной жизнью, о которой он, Генезип, не имел понятия. Может, это была и не любовная связь, но было в ней, черт возьми, что-то необычное — даже для такого окретиненного субъекта, как Зипек в тот вечер. Не зря ведь бестия лгала, что это пустая комната покойного брата — верзила явно жил там. Инстинктом [который, впрочем, так часто подводит (но тут он наверняка говорил правду — Генезип это знал)] он чувствовал, что бородач был ей безразличен как мужчина. В этом опосредованно крылось нечто более существенное. А что — он наверняка никогда не узнает. Он ощутил, что подвешен в полной социальной пустоте. Социально (и то хорошо, если уж нельзя морально) он был преступником, которого станут преследовать абсолютно все — за исключением, быть может, нескольких тысяч (в стране, конечно) изгоев, ему подобных. Чувство житейского сиротства перешло в состояние метафизического одиночества: ведь лишь одно-единственное существо — он — говорит о себе «я» в бесконечном пространстве-времени вселенной. (Пускай математики твердят, что хотят, и удобства ради обоснованно искажают мир, но наше актуальное пространство-«таки» — эвклидово, и прямая линия, невзирая ни на какие трюки, принципиально отличается от всех прочих.) Интуитивно, то есть: не зная соответствующих терминов и теорий, в своих собственных нарождающихся образах-понятиях, он непосредственно, по-скотски постиг актуальную бесконечность Бытия и ее непостижимость для о г р а н и ч е н н о й единичной экзистенции. И на этом конец — стена — полное безразличие. Вдруг — почти безотчетно — он повернул к дому. Единственный человек на свете — Лилиана. Проблема «алиби» обрисовалась вдруг со всей ясностью, совсем как в том недавнем и уже столь давнем сне. Может, его никто не увидит, а Лилиана скажет, что он все время был у нее — скажет наверняка — любимая сестричка! Как иногда хорошо, что есть семья! Он впервые увидел это так ясно — вот каналья! Единственное существо, которому он мог теперь верить, — она, презренная Лилюся (мать -— нет, княгиня — стократ тем более нет). А стало быть — вали давай к ней, «vallons» alors[196], — только чудом какой-нибудь знакомый может встретиться и узнать его в тусклом свете этого вечно мертвого города. В первые минуты где-то на дне души у него было ощущение, что жизнь кончилась безвозвратно — (будущее представлялось какой-то безымянной, прабытийной, недифференцированной кашей, в которой погрязла давняя, но троекратно усиленная, устремленная в бесконечность мука) — однако теперь, так же не веря в то, что можно и впредь существовать, не видя впереди ничего, кроме актуальной беззаботности (а этого, черт возьми, мало!), он на всякий случай решил убедиться в своем «алиби». Все это делал тот громила, но Боже сохрани — не он. Гибнущий Зипек свалил всю ответственность на того. Он ощущал его в себе уже явственно — вместе с копытами и когтями (и беззаботность была — того, другого): как он там устраивался, и притирался, и удобно располагался — уже навсегда — выдавливая прежнего Зипульку из его формы, как повидло или тесто, сквозь все психические дыры. И тут как назло на углу Колодезной и Фильтровой появились две шатающиеся фигуры — неверными ногами они липли к мокрым плитам тротуара, цеплялись похожими на щупальца руками друг за друга, за стены, столбы и киоски. Послышалась гнусная песенка — ее пел хриплый баритон с жестким марсельским акцентом:
Quel sale pays, que la Pologne,
Cette triste patrie des gouvegnages.
Pour faire voir un peu de vergogne
Ils n’ont pas même du courage.[197]
Они приближались. Гражданские. Один толстый, маленький, круглый; другой мелкокостный и тощий. Тощий вторил круглому хриплым шипением, исходившим, казалось, из каких-то ядовитых желез внутри его тела. От них шел дух, как от только что выключенных, еще теплых спиртовых примусов. И тут в Зипеке проснулся поляк. («Vous autres, Polonais...»[198]) Ax! Это же так просто — ничего интересного написать об этом невозможно. Может, тот автоматический громила со дна был более поляком, чем он сам. Закипела в нем, изволите видеть, кровь, и он съездил жирному по морде, уже в замахе различив нахально-лукавую и веселую физиономию Лебака, которого знал по какому-то училищному смотру. (Тут он впервые подумал, что ведь сама Перси и дуэнья... «Нет — эти не выдадут», — произнес в нем какой-то голос, и он был прав. Зип никогда больше об этом не думал. У нового жильца, обосновавшегося в нем, были какие-то свои клапаны и методы.) А кто второй? — да это же личный адъютант Лебака, герцог де Труфьер. Зип наподдал ему кулаком по филейной части и свалил в лужу, которая с наслаждением чавкнула, приняв в свои недра худой зад француза. Внешне, своей шинелью (в этом смысле внешне, а не духовно), юнкер мало чем отличался от обычного солдата-кавалериста. Темнота в переулке была почти непроницаемая — узнать его они не могли. Он двинулся дальше с тем же автоматизмом, который не покидал его с момента убийства. Лебак пытался его преследовать — напрасно. Закрутился на дряблой ручонке вокруг фонарного столба (света не было) и пал на колени, крича с ударением на последний слог: «Полицья, полицья!» [Время было переведено (научная организация труда) на два часа — лишь через час должно было начать светать.] Зипек не чувствовал ничего, ни малейшего беспокойства. Как поляк он был удовлетворен. «Хорошенькое алиби», — буркнул он. — «Вообще-то, зря я это сделал, и все же, чтоб завершить день, это было необходимо. Какая легкость! Какая легкость! И как я прежде этого не знал!» И в ту же минуту его поразило именно то, что он ничего, кроме этой легкости, не чувствовал. «Что же делать? — невозможно ведь заставить себя чувствовать то, чего не чувствуешь». Он завернулся в эту мысль, как в теплый плащ, и двинулся дальше по загаженным улицам к дому.