Впрочем, сторонники четвертой партии попадались и здесь, но это была небольшая кучка интеллигентов. Преобладающее большинство старожилов, как слива за косточку, держалось за пана бывшего министра, депутата Национального собрания, многократного почетного гражданина, трехкратного кавалера Золотой Чаши{131}, давшего имя колоколу Антониусу, Турчековой улочке и т. п.
Тут комиссару, если он не намеревался упражняться в прыжках через заборы, выступать не стоило. И Микеска кормился здесь только черным крестьянским хлебом.
При появлении Ландика в секретариате Микеска, ярый приверженец зеленого цвета, невольно стал менять окраску. Он покраснел и в смятении вытащил из петлицы булавку со свиной головкой, которую с некоторых пор носил вместо клеверного листка, и, широко раскрыв глаза, спросил:
— Вы что, выступать у нас хотите?
— Изучаю настроение, — успокоил его комиссар.
— Ну, это ничего. Вас бы камнями закидали.
— Настроение, значит, не слишком благоприятное?
— Голоса ценятся дорого. Да и то лишь цыганские. Фасоль кончилась. Они для разнообразия гороху хотят.
— Со шкварками, как сельничане?
— Какие шкварки! Ребрышки — и не меньше.
— Гм! «Такое я и записывать не стану», — подумал Ландик.
— Наши «аборигены» стряпают автономию, — распалял его секретарь.
— Без «гарнира»?
— На гарнир поджаренные чехи, евреи и лютеране.
— Фу! Но это же несъедобно.
— Три вида мяса! Могли бы подать под соусом и своего почетного гражданина.
Микеска почесал одной ногой другую и желчно продолжал:
— Этот всех превратил в фанатиков. Хотите выяснить настроения? Самое верное — по спичкам. У всех горожан — черные спички. Я пустил было в ход зеленые — не вышло. «Семерники» говорят, будто они централистские, а кто пользуется зелеными, тот вроде против Словакии.
Он сунул свинку в петлицу и вынул спичечную коробку, погремел ею и показал Ландику:
— У меня есть запас. Хотите?
— Дайте пяток.
Доставая коробки́ из деревянного ящичка, Микеска зло говорил:
— Куда они протянут свои черные лапы, там трава не растет. Попробуй потягайся с ними! Как дело доходит до избирательной кампании, они рубашку по месяцу не снимают, чтоб черней была.
Ландик уже насытился настроениями горожан и ждал, когда Микеска заговорит об Аничке, о приветах, которыми они обменялись при его посредничестве. Но секретарь все вертелся вокруг политики, как карусельный конь вокруг оси, и Ландик сам попытался вывести Микеску на милую сердцу боковую дорожку. Нельзя выступать — поговорим о другом, более приятном.
— Найдутся верные сторонники и нашей партии. Бригантик, например, — заметил Ландик, в надежде, что за Бригантиком вынырнет Аничка: ведь этот тип перевел его в Братиславу из-за Анички.
— Я бы ему насыпал соли на хвост. — Микеска потряс спичечным коробком. — Он как джокер — к любой масти годится, к любой карте. Многоцветный — бесцветный! Впрочем, черта с два бесцветный! Чижик про него эпиграмму сочинил:
За любую рясу держится упрямо,
как ребенок малый за передник мамы.
— А в общем-то — за Антонову рясу держится и в рот ему смотрит.
— А Толкош?
Толкош ухаживал за Аничкой. Теперь-то наверняка речь зайдет об Аничке.
— Ярмарочный боров, — выругался Микеска, — кто больше даст, тому и продастся. Когда поставляет мясо учительскому институту, — а попечитель его наш «почетный гражданин» Антон Турчек, — Толкош обходит меня за сотню шагов.
— Тогда Розвалид.
У Розвалида служит Аничка. «Если Микеска и сейчас не заговорит о ней, сам спрошу», — решил Ландик.
— Розвалид развалился, — и секретарь взмахом руки смахнул его с лица земли. — Поднялся на ноги, оклемался и теперь устраивает в доме ад. Ложку не смеют уронить, стулом или дверью скрипнуть, стаканом звякнуть. Стоит дождю в окно стукнуть, прожужжать мухе, как он уже носится по комнатам, хватается за голову, лягает стулья, швыряет стаканы и салфетки. Мак толочь ходят к соседям, радио вынесли в кухню. Ужасно! Как будто дантист постоянно дергает ему нерв из больного зуба. Я к ним больше не хожу. Отказали мне от дома. Аничка сама…
«Наконец-то Аничка», — облегченно вздохнул Ландик.
— …попросила меня не ходить к ним, пока «старый хозяин» не придет в себя, дескать, мои посещения его нервируют. А почему, спрашивается? Из-за Анички. Вообразил, что я отниму ее у них. Не понимаю. Не собирается ли он сам нюхать фиалку, старый козел? Мне его жаль, я ведь ради него старался, да и вас просил похлопотать перед Петровичем, чтоб его куда-нибудь, хотя бы в окружной комитет, взяли как специалиста по финансам, раз уж кандидатом не выдвинули. А он меня из дома выставил. Я на него обижен. Нюхал бы свою хризантему. Неужели он воображает, что девушка повесится на старой веревке? Ведь он руку в кулак сжать не может.
— А она что? Согласна? — У Ландика даже дыхание сперло.
— Навряд ли, но разве мы всегда делаем то, что хотим? Это душа-девушка, девушка-рабыня. Чтобы сберечь дурацкую рюмку, она способна сесть на колени этому развалине. И жена ему под стать. Она стерпит и тайную любовницу в доме, лишь бы он не лягал стулья. Пусть обнимается с ней, лишь бы не швырялся салфетками! А Розвалид воображает, что ему как больному все дозволено. Не советую туда ходить, он вам нос прищемит дверью.
«Розвалид, конечно, помнит, как застал Аничку у меня», — Ландика даже жаром обдало. Он искоса наблюдал за возбужденным Микеской, а тот метался по комнате и откручивал пуговицу на пиджаке. Здорово его задел отказ от дома. «Он неравнодушен к девушке», — думал Ландик и сразу же вспомнил, как Микеска расхваливал Аничку и передавал от нее привет, повествуя о трагедии Розвалида. Едва ли Аничка кокетничает с директором, — скорей уж с Микеской. Правда, пан секретарь не вышел ростом, страдает одышкой, одежда на нем кургузая, словно его поставили в канаву, когда снимали мерку, зато он молод. Не может быть, чтоб она предпочла поверженного банкира с трясущейся головой… А Микеска преувеличивает — и преувеличивает из любви к Аничке. Любопытно. Тогда Толкош, теперь Микеска, а если секретарь говорит правду, то и Розвалид. Три соперника! Всегда около нее кто-то вертится!
Ландик заподозрил секретаря в том, что тот лишь запугивает, не хочет, чтоб он встретился с Аничкой.
Увы, Микеска не преувеличивал. Розвалид действительно раздражался и нервничал, но только при Микеске, в остальное время он был достаточно спокоен, а после визита Петровича даже приободрился. Странную идею жены — удочерить Аничку — он принял только, чтобы доставить ей радость и не догадывался, что пани Клема подстроила все это, пытаясь застраховаться от растущей симпатии мужа к Аничке. Став «отцом», он будет относиться к девушке как отец и, быть может, ради дочери понемногу вернется к жизни.
Неприятие всего окружающего, безразличие у Розвалида вроде бы прошло. После заверений Петровича, будто суд решит дело в его пользу, он начал даже надеяться на возвращение былого благополучия. Но Микеска раздражал его. Стоило ему увидеть Микеску, а особенно — как он разговаривает с Аничкой, стулья — и так уже инвалиды — летели на пол, в воздухе мелькали салфетки, и от крика дребезжали оконные стекла. Однажды после визита Микески бывший директор снова лег в постель, отбросил ногой перину и, призывая смерть, велел сходить за Антоном, чтобы исповедаться! Его еле утихомирили. Он колотил ногами по спинке кровати и вопил, как сумасшедший:
— Не впускайте Микеску!
После этого случая Аничка и попросила секретаря не приходить, пока «старый хозяин» не выздоровеет.
Микеска ошибался, считая болезнь Розвалида неизлечимой, но правильно понял, что отказ от дома произошел из-за Анички.
Опасения были и у Микески: он боялся, что Розвалид сделает из Анички не дочь, а тайную любовницу, если уже не сделал этого. Ему на память приходили семьи, где законная жена терпит подобную ситуацию в доме. Курица Клемушка — из таких. Микеске хотелось спасти неопытную простодушную девушку, потому что, по его мнению, она была покладиста и уступчива.
— Пан доктор, самое лучшее — похитить девушку, пока она спит, — предложил он, в сильном волнении откручивая пуговицу, наконец ему удалось открутить ее совсем, и она осталась у него в руке.
Ландик усмехнулся:
— К чему красть? Может, она добровольно пойдет. — И поспешил обратить все в шутку: — Кто в наше время похищает женщин? Если она любит, то сама найдет к вам дорогу, а если нет — уйдет, даже если ее украдут. Без любви все равно не удержать — ускользнет, как рыба.
Поколебавшись, он вдруг спросил:
— Аничка вам нравится?
Микеска молчал, не зная, сказать правду или скрыть свою любовь, чтобы Ландик не догадался о ней. Наконец признался:
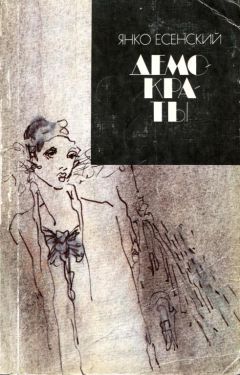

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


