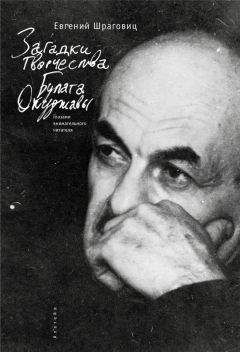– Не могу, – прошептал он.
– Я только скину халат.
Володька осторожно отнял руку. Она, не вставая, кинула халатик на стоящий рядом стул и осталась в трусиках и лифчике. Он опять обнял ее и, ощутив своими ногами ее голые горячие ноги, замер… Через некоторое время он чуть приподнялся, захотел поцеловать ее губы, но она закачала головой:
– Не надо. Мне и так очень хорошо… Ты со мной, совсем со мной. Господи, если бы можно было остановить время…
Да, было и так необыкновенно хорошо, чего же больше. И не знал еще Володька, что сколько бы ни было у него женщин и какими бы они ни были, ничего более прекрасного не будет у него в жизни уже никогда. Что эта короткая июньская целомудренная ночь, пролетевшая сказочным мигом под далекий грохот зенитных батарей, останется в душе навсегда и воспоминания о ней будут томить сердце до конца дней…
Они почти не спали… Может быть, на какие-то минуты они и уходили в сон, но только на минуты, и, просыпаясь, сразу же глядели друг на друга, чтоб увериться – они вместе, это взаправду…
Июньский ранний рассвет уже с трех часов ночи начал высветлять окна, а к пяти луч солнца пробился к ним и золотой полосой лег на их счастливые, но осунувшиеся лица. Володька решил уходить в шесть – к семи он попадет домой, и "святая ложь" – попал в комендатуру – будет правдоподобна.
В прихожей Тоня протянула ему губы для поцелуя.
– Что ж ты боялась ночью? Разве ты не верила мне?
– Я не боялась. Просто было так хорошо, что большего не нужно.
Ровно в шесть спускался Володька по лестнице, стараясь прошмыгнуть незаметно мимо лифтерши, но она бдила и пробуравила его своими глазками.
Он сел в перегруженный трамвай, долго висел на подножке, пока на следующей остановке не подвалило людей и они не втиснули его в вагон. Как ни был он рассеян и погружен в свои переживания, но не мог не заметить – другой народ катит в этом первом утреннем трамвае, чем тот, который ходит в дневные часы по улицам Москвы.
Спешила на заводы рабочая Усачевка – пожилые мужчины в спецодежде, бледные, уже с утра усталые женщины и невыспавшиеся подростки. У последних-то и слипались веки, дремали стоя, а кто сидел, спали по-настоящему – несытые, с совсем еще детскими лицами, но уже какими-то озабоченными, серьезными. И эти мальчишки, работнички ранние, несмотря на дрему, все же посматривали на раненую Володькину руку, на медаль, хоть и сдержанно, но все же с интересом – с войны человек, с фронта… Трамвай дико визжал на поворотах, женщина-вагоновожатая остервенело звонила каждоминутно без всякой надобности. Когда Володька сходил, то увидел ее лицо – оно было заплаканно и искажено горем.
Он предполагал, что мать еще спит и ему удастся незаметно проскочить в свою комнату, но она встретила его в коридоре, видно услышав, как он ворочал ключом.
– Мама… – начал было он.
– Тише, Володя, – сказала она шепотом. – В твоей комнате Юля.
– Что? – оторопел он.
– Ее вчера отпустили в увольнение. Вечер она провела со своими, а около двенадцати пришла к нам… Ты понимаешь, что при ней я не могла позвонить, и страшно волновалась. Мы ждали тебя до двух часов ночи.
Володька подошел к своей комнатке и тихонько приоткрыл дверь. Юля спала одетая, чуть прикрытая одеялом. На зареванном лице – гримаса страдания. Рот полуоткрыт, губы опущены вниз, как у обиженного ребенка. Его ударило жалостью, он постоял еще немного, а потом закрыл дверь.
– Она спит, – сказал он растерянно, войдя в комнату матери.
– Что ты намереваешься делать? – холодно спросила мать. – Продолжать ложь? – Она набила папиросу и закурила.
– Осталось всего немного. Я уеду, и все разрешится само собой… Мама, я скажу, что попал в комендатуру, возвращаясь от Сережки, – полувопросительно закончил он.
– Говори что угодно, но не вмешивай меня…
Володька искурил папиросу, изжевав весь мундштук, несколько раз прошелся по комнате туда-сюда, прежде чем решился идти к Юле. Когда он вошел, она лежала на спине с открытыми глазами, и ничего не дрогнуло на ее неподвижном лице.
– Ты проснулась? – промямлил он, но она ничего не ответила, продолжая глядеть на него каким-то невидящим взглядом.
Он совсем смутился, начал переступать с ноги на ногу и наконец раскашлялся.
– Ты что, не видишь? Это я. Меня задержали по дороге от Сергея…
– Это не ты, Володька, – каким-то пустым, безразличным тоном проговорила она. – Выйди, я приведу себя в порядок…
– До каких часов у тебя увольнение?
– Не все ли равно. Я сейчас уйду.
– Юлька, но нельзя же так! Ты ничего не знаешь…
– Я ничего не хочу знать. Выйди.
Володька вернулся в комнату матери.
– Юля почему-то решила, что ты встретил эту… Майю, кажется? Была у вас в классе такая пышная девочка, и что пропадаешь у нее, – сказала мать.
Он ничего не ответил и опять засмолил папиросу. Вошла Юля, бледная, подурневшая, в помятой гимнастерке и юбке, и опять Володьку ударило жалостью.
– До свиданья, – сказала она только Володькиной матери. – Я ухожу.
– Я провожу тебя, – поднялся он.
– Не хочу, – резко бросила Юля.
– Все равно провожу.
Они молча спустились по лестнице, молча шли по улице. Когда они сходили с тротуара, Володька хотел поддержать ее за локоть, но она вырвала руку:
– Не дотрагивайся до меня!
Так, в молчании они дошли до ее дома, и только тут, приостановившись, Юля дрожащим голосом сказала:
– Как ты мог… с этой дрянью. Она же чуть ли не с восьмого класса…
– Да не встречался я ни с какой Майкой! Я напишу тебе…
– Все равно ты предал меня. – Она круто повернулась и вошла в парадное.
Возвратясь домой, Володька принялся строчить большое письмо, стараясь объяснить ей (да и себе тоже), что произошло с ним, предлагая ей остаться друзьями, не обрывать то, что у них было, но письмо не получалось, выходило вымученным, холодным, и Володька разорвал написанное.
* * *
Встреча с Сергеем произошла опять на той же квартире в Троицком переулке. Когда они говорили по телефону, договариваясь о встрече, Володьку поразил голос Сергея. Что-то у него случилось, подумал он. Но, встретившись, он ничего не заметил на лице Сережки – оно было спокойно и лишь очень сосредоточенно. Он довольно рассеянно слушал Володьку, рассказывавшего о неожиданном приходе Юли, о сцене, которая произошла.
– Ну и что же? У Юльки, по-моему, был какой-то роман, пока ты был в армии, теперь у тебя. Подумаешь, – небрежно высказался Сергей, не придавая всему этому значения.
– Мама часто мне твердила, что ее счастье и ее беда в том, что она воспитана на святой русской литературе… Я тоже в том же грешен, – заметил Володька.
– Думаю, что здесь больше беды… Слишком много психологии и "проклятых вопросов". Русская литература не смогла воспитать цельного, рационального человека. Она создала либо фанатиков, либо "лишних" людей, – заявил Сергей. – Кстати, мы спорили с тобой об этом еще на заре туманной юности. Помнишь?
– Помню. Но ты был не прав тогда, как и сейчас. Русская литература воспитала человека, которому очень трудно быть подлецом…
– Возможно, возможно… Прости, Володька, но мне что-то не до дискуссии. Я позвал тебя по другому поводу… Вот прочти. – Сергей вынул из бокового кармана пиджака конверт. – Это от отца… – и отдал Володьке.
«Дорогой Сережа! Не знаю, получил ли ты то, о чем писал. Не знаю – нужно ли это вообще. Без твоей помощи я как-нибудь проживу здесь, и главное не во мне. Я чувствую, ты в страшном разладе и тебе трудно. Я хочу, Сережа, чтоб ты был со всеми, чтоб моя судьба никак не была помехой твоему великому гражданскому долгу. Страна в огромной беде…»
Дальше следовали обычные в письмах слова: вопросы о здоровье, приветы Любе и знакомым…
Володька прочел… Своего отца он не помнил, тот погиб в служебной командировке на Украине, случайно заехав в деревню, занятую махновцами. Поэтому слово "отец", понятие "отец" было у него чем-то большим, почти святым, и, как он ни любил мать, он знал, что отца любил бы больше… И сейчас, прочитав это письмо, он раскашлялся, стараясь выпершить подкативший к горлу ком.
– Первые строки – о брони, ну, а остальное… это тоже из области русской литературы, – пояснил Сергей. – Ну что скажешь? – Володька молчал, а он продолжил: – Ты говорил как-то, что главное слово войны – "надо"… Я не стал тебе тогда ничего говорить, чтоб не сплавилось твое железное "надо". Но видишь ли – есть и другие "надо"…
Они долго молчали. Сергей барабанил пальцами по столу, а Володька, опустив голову, думал. Он мог бы рассказать Сергею, как шел в атаку командир первого взвода Андрей Шергин, сын бывшего комбрига, передавший перед наступлением ему письмо с далеким северным адресом, как, наскоро перевязавшись после первого ранения, поднял залегших людей и, не пробежав десяти метров, получил вторую пулю, после которой опять поднялся и, выхрипывая "Вперед!", не тратя уже времени на перевязку, вел взвод все дальше и дальше… Его, побелевшего, с семью пулевыми ранами, притащили ребята его взвода после того, как наступление захлебнулось… Но не стал рассказывать. У Шергина были те же иллюзии, как у Сергея в финскую; получить высшую награду, доказав этим, что не может быть врагом человек, воспитавший такого сына.