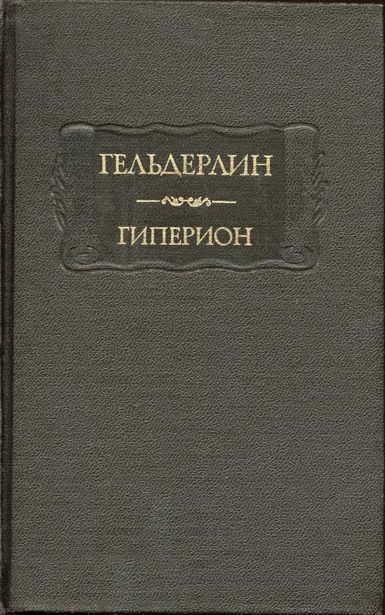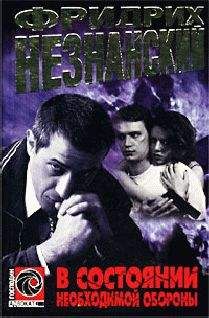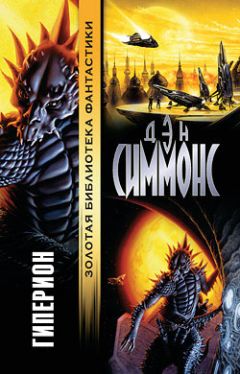возможно меньше профанировать его в этой свалке перед Троей. Об Улиссе он может рассказать кучу всего. Этот — мешок разменной монеты, которую надо долго пересчитывать; с золотом же можно покончить быстро».
(2) «В особенности же я люблю и восхищаюсь этим поэтом из поэтов за его Ахилла. Поразительно, с какой любовью и с каким умом провидел, и удержал, и воспел он эту фигуру. Возьми почтенных мужей Агамемнона, и Улисса, и Нестора со всей их мудростью и безумием, возьми буяна Диомеда, безумствующего в ослеплении Аякса, и поставь их против этого гениального, всемогущего, нежно-меланхолического сына бога, Ахилла, против этого enfant gâté природы, и посмотри, как поэт ставит его, этого юношу с силой льва, умом и грацией, в центр между старческой мудростью и грубостью, и ты увидишь в характере Ахилла чудо искусства. В прекраснейшем контрасте находится этот юноша с Гектором, благородным, верным, благочестивым мужем, который становится героем из чувства долга и своей чуткой совести, в то время как другой — по велению своей щедрой, прекрасной натуры. Они настолько же противоположны, насколько родственны друг другу, а это делает еще более трагичным конец, когда Ахилл должен выступить смертельным врагом Гектора. Приветливый Патрокл так естественно становится другом Ахилла и так хорошо гармонирует со строптивым.
Мы видим, как высоко ценил Гомер своего героя. Критики часто удивлялись, почему Гомер, желавший воспеть гнев Ахилла, почти совсем не выводит его на сцену. А он не хотел профанировать юношу в свалке перед Троей.
Идеальное не должно было явиться как обыденное. И он действительно не мог воспеть его прекрасней и нежней, чем заставив его отступить на задний план (ибо этот юноша в своей гениальной натуре чувствовал себя — сам безмерный — безмерно униженным чванным Агамемноном), так что вечные потери греков с того дня, когда в войске недосчитались этого единственного, напоминают об его превосходстве над всей этой роскошной толпой господ и слуг, а редкие моменты, в которые поэт позволяет ему явиться перед нами, еще более подчеркиваются его отсутствием. И сии моменты обрисованы с чудесной силой, и юноша выступает попеременно то как скорбящий, то как отмститель, то неизреченно трогательный, то вновь гневно-грозящий, пока наконец, когда его страдания и его гнев достигают апогея, после ужасного взрыва, стихия не угомонится и сын бога, незадолго перед смертью, которую он предчувствует, примирится со всеми, даже со старым отцом [Гектора] Приамом.
Эта последняя сцена божественна — в контрасте с тем, что ей предшествовало».
Но образ Ахилла вовсе не однозначен в сознании поэта. В последнем из законченных им стихотворений — «Мнемозина», 1803 г. — Ахилл — это умерший друг. Первые слова гимна, написанные посередине листа бумаги и позднее обозначившие начало третьей строфы, были:
Am Feigenbaum
Ist mir Achilles gestorben
Под смоковницей
умер мой Ахиллес.
...поклониться от нее берегам Скамандра, Иде и всей старой троянской земле. — Скамандр — река, Ида — горы в северо-западной части Малой Азии, где лежала древняя Троя.
...что я слышу жрицу в Додоне. — В «Путешествии юного Анахарсиса», которое несомненно знал Гёльдерлин, в томе 3-м есть следующее описание:
«В одном из северных районов лежит город Додона. Именно здесь находится храм Юпитера и оракул, самый древний в Греции (Геродот, кн. 2, гл. 52). Он существовал с той поры, когда жители этих пределов имели лишь самую смутную идею божества, однако уже обращали беспокойные взоры в будущее, ибо ведь правда, что желание узнать его есть одна из древнейших болезней духа человеческого и одна из наиболее пагубных. Добавлю, что есть и другая, не менее древняя у греков: они объясняют сверхъестественными причинами не только явления природы, но и обычаи или установления, происхождение коих им не известно. Если удосужиться проследить все цепочки их традиций, то увидишь, что они все упираются в чудеса. Чтобы основать оракул в Додоне, им тоже требовалось чудо, и вот как об этом рассказывают жрицы храма (Там же. Гл. 55).
Однажды две черные голубки улетели из города Фивы, что в Египте, и прилетели одна в Ливию, другая в Додону. Эта последняя, усевшись на дуб, произнесла внятным голосом следующие слова: «Воздвигните в сих местах оракул в честь Юпитера». Другая голубка предписала то же самое жителям Ливии, и обе они почитаемы как посланницы, возвестившие волю богов. Сколь бы абсурдным ни представлялся нам этот рассказ, он, кажется, имеет реальную основу. Египетские жрецы утверждают, что некогда две жрицы отправились от них в Ливию и Додону, чтобы передать их священные обряды, а на языке древних народов Эпира одним словом обозначали голубку и старую женщину (см., напр., Страбон)» (С. 252—253). «Свои тайны боги сообщали жрицам этого храма разными способами. Иногда эти жрицы идут в священный лес, и садятся у вещего дуба, и слушают — то шепот его листвы, оживляемой зефиром, то стон ветвей, ломаемых бурей. Другой раз, остановившись у ручья, ключом выбивающегося у подножия дерева, они слушают немолчный говор его бегущих волн» (Там же. С. 254—255).
Эти отрывки, где говорится именно о жрицах, должны снять сомнения некоторых комментаторов, утверждавших, что «толкования в Додоне давались прорицателями, а роль жриц неясна».
...о том, что было, и есть, и будет... — это место сопоставляют со стихом «Илиады» (I, 70), где говорится о Калхасе: «Мудрый, ведал он все, что минуло, что есть и что будет».
Мирты — в Большом Штутгартском издании Р. Байснер правит Myrten на Mythen («мифы»), считая Myrten опечаткой.
Кастри у Парнаса — эта деревня была построена на склоне Парнаса на развалинах древних Дельф (в юго-западной Фокиде) с храмом, посвященным Аполлону, и оракулом (VI в. до н. э.). Сейчас ее там нет: с началом раскопок деревню перенесли.
...среди могильников, быть может насыпанных Ахиллу и Патроклу, и Антилоху... — Ср.: Одиссея, XXIV, 71—84.
...и Аяксу Теламону... — Здесь Аякс назван по имени своего отца, царя Саламина. См. примеч. 20 выше (Аякс-Мастигофорос).
...через Тенедос и Лесбос. — Эти острова тоже связаны с историей Троянской войны: за Тенедосом укрывались греческие корабли, когда