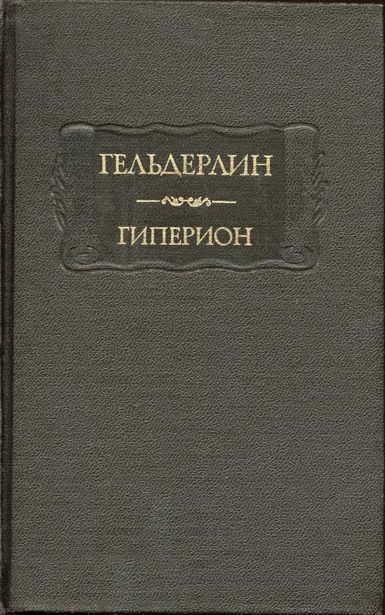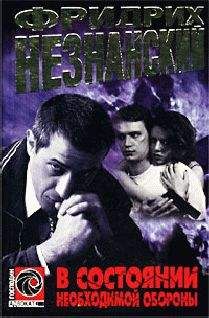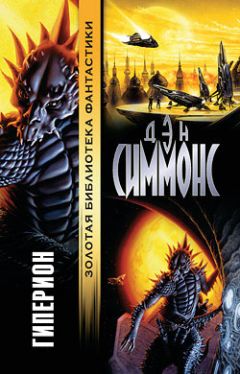εν δίαφέρου έαυτω — идеал красоты целеустремленного разума, то его требования не слепы и он знает, зачем, для чего он требует.
Когда солнце красоты озаряет рассудок во время его работы, как майский день, заливающий светом мастерскую художника, то рассудок не предается мечтам и не бросает свой подлинный труд, а радостно вспоминает о наступающем празднике, когда он отдохнет, молодея в лучах весеннего солнца.
Так говорил я, пока мы не причалили к берегам Аттики.
Мысли наши были так заняты древними Афинами, что у нас пропало желание рассуждать логично, и я сам подивился характеру своих недавних откровений:
— Как же это я очутился на бесплодных горных высях, где вы только что меня видели?
— Так всегда бывает, когда нам хорошо, — ответила мне Диотима. — Бьющая через край сила ищет себе работы. Насытившись молоком матери, ягнята играют и сшибаются лбами.
Мы поднимались теперь на вершину Ликабета [139], и, хоть времени было в обрез, мы порой останавливались в раздумье и словно в ожидании чего-то чудесного.
Как хорошо, что человеку так трудно поверить в смерть всего ему дорогого, и, должно быть, никто еще не шел на могилу друга без смутной надежды и вправду его там встретить. Меня поразил прекрасный призрак древних Афин, словно то был образ дорогой матери, возвращающейся из царства мертвых.
— О Парфенон, гордость мира! — воскликнул я. — У твоих ног лежит царство Нептуна, подобно укрощенному льву, и, словно дети, теснятся вокруг тебя другие храмы, виднеется ристалище красноречия Агора и роща Академа...
— До чего ж ты умеешь переноситься в прежние времена, — заметила Диотима.
— Не напоминай мне о тех временах! — попросил я. — То была божественная жизнь, и человек был тогда средоточием природы. Та весна, когда она цвела вкруг Афин, была что скромный цветок на девичьей груди; и встающее солнце краснело от стыда за себя, глядя на красоты земли.
Мраморные глыбы Гимета и Пентеле выходили из своей дремотной колыбели, как дети из лона матери, и обретали форму и жизнь под бережными руками афинян.
Медом одаривала их природа, и прекраснейшими фиалками, и миртами, и оливами.
Природа была жрицей, человек — ее богом, и вся жизнь в ней, каждое ее обличье, каждый звук были единым, восторженным эхом владыки, которому она служила.
Только его она славила, ему одному возлагала на алтарь жертвы.
И он стоил того, он был способен, сидя в своей священной мастерской, влюбленно созерцать божественное изваяние, им же созданное, и обнимать его колена или проводить время в возвышенных размышлениях, возлежа среди внемлющих учеников на мысе, на зеленой вершине Суниума; он мог состязаться в беге на стадионе, мог с кафедры, как громовержец, насылать дождь и солнечные лучи, молнии и золотые облака...
— Да погляди же! — вдруг воскликнула Диотима.
Я взглянул и едва устоял перед величием открывшегося мне зрелища.
Словно обломки гигантского кораблекрушения, лежали перед нами Афины; так, когда ураган уже стих и мореходы бежали, остаются лежать на прибрежном песке до неузнаваемости изуродованные останки кораблей; сиротливые колонны стояли точно голые стволы леса, который вечером был еще зелен, а ночью сгорел.
— Здесь учишься молчать о себе, о своей судьбе, какая бы она ни была, счастливая или несчастная, — сказала Диотима.
— Здесь учишься хранить молчание обо всем, — подхватил я. — Если бы жнецы, собиравшие урожай на этой ниве, наполнили им свои житницы, тогда бы ничего не пропало и я удовольствовался бы тем, что собираю после них колосья; но разве кто-нибудь воспользовался этим богатством?
— Вся Европа, — заметил один из друзей.
— О да! — воскликнул я. — Они растащили колонны и статуи [140] и перепродают их друг другу, сбывая благородные изваяния по красной цене: как-никак это редкость не меньшая, чем попугаи и обезьяны.
— Не говори так! — возразил мой друг. — Если даже они действительно не способны проникнуться духом всей этой красоты, то лишь потому, что его нельзя ни унести, ни купить.
— Где там! Этот дух погиб еще до того, как разрушители хлынули в Аттику. Дикие звери отваживаются входить в городские ворота и бродить по улицам, только когда опустели дома и храмы.
— В ком жив этот дух, — сказала, чтобы утешить нас, Диотима, — для того Афины по-прежнему цветущее плодовое дерево. В своем воображении художник без труда дополнит обезглавленный торс.
На другой день мы встали рано, осмотрели развалины Парфенона [141], место, где находился древний театр Вакха [142], храм Тезея [143], шестнадцать уцелевших колонн божественного храма Юпитера Олимпийского [144]; но больше всего поразили меня древние ворота [145], которые некогда вели из старого города в новый и где когда-то в один только день проходили, наверное, тысячи совершенных людей, приветствуя друг друга. Теперь никто не проходит сквозь эти ворота ни в старый, ни в новый город, они стоят безмолвные и пустые, как и иссохший фонтан, из труб которого некогда с ласковым журчанием била чистая, свежая вода.
— Ах, — сказал я, когда мы там бродили, — какая, в сущности, великолепная игра судьбы; она разрушает храмы и позволяет детям швыряться осколками их камней; обломки кумиров она превращает в скамейки перед крестьянскими хижинами, и по ее воле среди надгробных плит отдыхает пасущийся скот; в этом мотовстве больше царственности, чем в прихоти Клеопатры [146], вздумавшей пить растворенный в уксусе жемчуг; а жаль все-таки, что нет больше того величия и красоты!
— Бедный мой Гиперион, — воскликнула Диотима, — тебе пора уходить отсюда, ты побледнел, и глаза у тебя усталые, а мудрые рассуждения тебе не помогут, как ни старайся. Уйдем отсюда. Выйдем на простор, на зелень. Среди многокрасочной жизни ты придешь в себя.
И мы пошли в окрестные сады.
По дороге наши спутники завели разговор с двумя английскими учеными, собиравшими жатву среди афинских древностей, их никакими силами нельзя было оторвать от англичан. Но я охотно с ними расстался.
Душа моя встрепенулась, когда я так внезапно оказался наедине с Диотимой; она победила в великолепном поединке со священным хаосом Афин. Спокойный разум Диотимы совладал с разрушением, как лира небесной музы с несогласными стихиями. Ее душа воспряла от прекрасной скорби, явилась как луна из легкой пелены туч; в своей печали дивная девушка напоминала ночные цветы, такие благоуханные во мраке.
Мы шли все дальше и дальше, и, как обнаружилось,