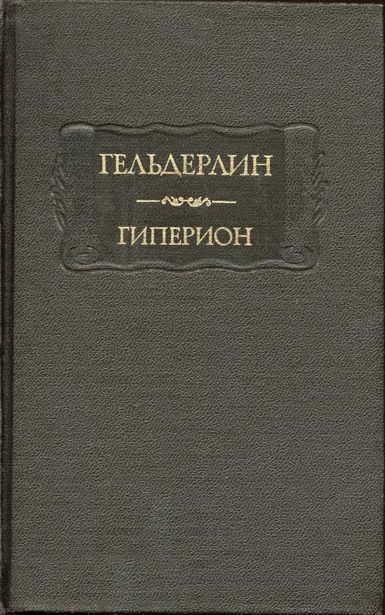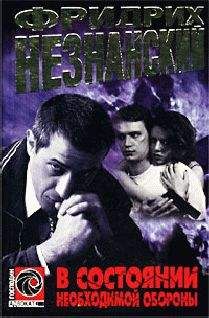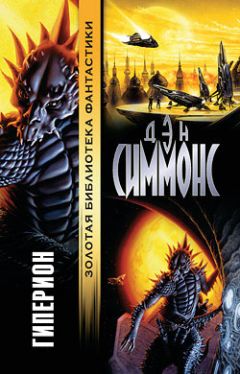дотла, это убийственное мечтание. Но мой ум отказался мне в том споспешествовать. И к тому же стали льнуть ко мне лживые демоны, предлагая волшебные зелья, чтобы вконец испортить меня своими адскими снадобьями.
Обессиленный яростной борьбой, я наконец сдался и поник. Мои глаза закрылись, сердце забилось ровней, и, будто радуга мира после грозы, взошло во мне вновь ее небесное существо.
Святой мир ее сердца, который она часто на мгновенье сообщала мне речью и взглядом, от чего мне казалось, будто я вновь брожу по райским тропинкам ушедшего детства, ее кроткая деликатность по отношению ко всему, что хотя бы отдаленно было связано с Красотой и Добром, и она опасалась осквернить это легкомысленной шуткой или всерьез, ее безупречное обхождение, ее дух с его царственными идеалами, к которым она питала столь сильную, но притом молчаливую любовь, что не нуждалась ни в чем и не боялась ничего на свете; все эти прекрасные, вдохновенные вечера, которые я провел с нею вместе, ее голос, ее игра на арфе, прелесть движений, отмечавшая — где бы она ни находилась, куда бы ни шла — ее кротость и ее величие, — ах! все это и больше, чем это, вновь ожило во мне.
И этому небесному созданию был адресован мой гнев? И за что же я гневался на нее? За то, что она не была нищей, как я, за то, что носила еще в сердце небо и не утратила себя, как я, и не нуждалась в другом существе, ни в чужом богатстве, чтобы заполнить пустоты, за то, что она не боялась погибнуть, как я, и в страхе смерти не хотела прилепиться к другому, как я; ах! именно наибожественнейшее в ней — это спокойствие, эту небесную сосредоточенность в себе я оскорбил своим недовольством, в неблагородном гневе позавидовал ее безмятежности. Разве могла она иметь дело с таким растерзанным существом? Разве не должна была бежать меня? Да, конечно: ее гений остерег ее передо мной [22].
Все это как мечом пронзило мне душу [23].
Я захотел стать другим. О! Я захотел стать, как она. Уже я слышал, как ее уста произносят небесное слово прощенья, и чувствовал в упоении, как она преобразует меня.
И я поспешил к ней. Только с каждым шагом становился я неспокойней. Мелите побледнела, когда я вошел. Это совершенно лишило меня равновесия. Но полное молчание с обеих сторон, сколь кратко оно ни было, было мне слишком мучительно, чтобы я не попытался как-нибудь прервать его.
— Я должен был прийти, — сказал я. — Я в долгу перед тобой, Мелите! — Сдержанность в моем тоне, кажется, ее успокоила, однако она спросила слегка удивленно, почему я прийти был должен.
— Я должен за многое просить у тебя прощения, Мелите! — вскричал я.
— Ты ничем меня не обидел.
— О Мелите! Как жестоко карает меня эта небесная доброта! Мое недовольство ты не могла не заметить.
— Но оно не обидело меня, ведь ты не хотел этого, не так ли, Гиперион? Почему бы мне не сказать тебе это? Я очень печалилась из-за тебя. Мне так хотелось бы сообщить тебе немного мира. Мне часто хотелось просить тебя быть поспокойней. Ты становишься совсем другим в хороший час. Уверяю тебя, я страшусь, когда вижу тебя таким резким и мрачным. Не правда ли, милый Гиперион, ты больше не будешь таким?
Я не мог вымолвить ни слова. Ты чувствуешь вместе со мной, брат души моей, каково мне было тогда? Ах, небесное волшебство было в том, как она это говорила, невыразима была моя мука.
«Я не раз размышляла над тем, — продолжала она, — откуда происходит эта твоя странность. Это мучительная загадка, что дух, подобный твоему, должен находиться под гнетом таких страстей. Без сомнения, было время, когда он был свободен от этого беспокойства. Это время для тебя теперь стало прошедшим? Ах, если б я могла возвратить его тебе, этот безмолвный праздник, этот святой покой внутри тебя, где внятен малейший шорох, приходящий из глубины духа, и едва слышимый зов извне, с небес, и шелест ветвей и цветов, — я не умею выразить, что происходит часто со мной, когда я стою перед лицом божественной природы и все земное замолкает во мне, — тогда Невидимый стоит рядом с нами!».
Она умолкла и словно стыдилась, как если бы выдала тайну.
«Гиперион! — начала она снова. — Ты имеешь власть над собою, да, я знаю. Скажи своему сердцу, что напрасно искать мира вне себя, если ты сам не можешь дать его себе [24]. Я всегда высоко ценила и ценю эти слова. Это слова моего отца, плод его страданий, как он говорит. Дай его себе, этот мир, и будь радостен! Ты сделаешь так. Это моя первая просьба. Ты не откажешь мне в ней».
«Все что хочешь и как ты хочешь, ангел с небес!» — вскричал я и, не осознавая, что делаю, схватил ее руку и с силой прижал к моему сердцу, исходящему болью.
Будто внезапно пробудившись ото сна, она высвободилась — с максимальной деликатностью, но величие в ее взоре повергло меня ниц.
«Ты должен стать другим», — воскликнула она с чуть большей горячностью, чем обычно. Отчаяние нахлынуло на меня. Я почувствовал, как я мал, и тщетно рвался ввысь. Ах, лучше бы мне было погибнуть! Подобно подлым душам, я искал утешения своему ничтожеству в том, что пытался умалить великое, что я небесное... Беллармин! Ни с чем не сравнимая мука знать, что несешь на себе столь позорное пятно. Она хочет избавиться от тебя, думал я, вот и все! «Хорошо, я стану другим!» — так сказал я, несчастный, прикрываясь вымученной улыбкой, и поспешил прочь.
Будто гонимый злыми духами, бросился я бежать и метался по лесу, пока не упал на редкую траву. Бесконечной ужасной пустыней лежало передо мною прошлое, и в адской злобе я истребил без остатка все, что некогда лелеяло и превозносило мое сердце.
Потом вновь злобно и презрительно хохотал над собой и надо всем и с наслаждением вслушивался в отголоски эха, и вой шакалов, со всех сторон стекавшийся ко мне из ночи, отдавался отрадой в моей растерзанной душе.
Глухая, страшная тишина последовала за этими убийственными часами, поистине мертвая тишина! Я больше не искал спасенья. Все стало мне безразлично. Я был будто скотина под рукой мясника.
«И Она! И