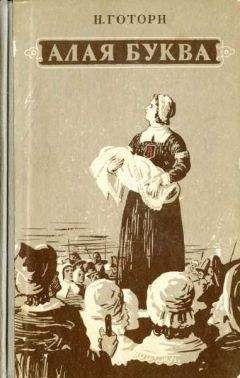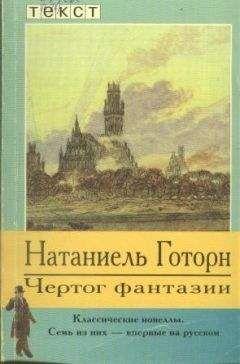Но ночной свет луны, слившийся с утреннею мглой, набрасывал на него одежду, в которую он плотно закутывался, редко пропуская сквозь нее к своему сердцу действительность; он редко пробуждался совершенно, он спал с открытыми глазами и, может быть, даже воображал, что спит.
Пребывая, таким образом, душой в эпохе детства, он чувствовал к детям симпатию, и оттого сердце его постоянно освежалось, как резервуар воды, в который проведен ручеек невдалеке от своего истока. Хотя тайное чувство приличия удерживало его от вмешательства в их общество, однако ж мало было занятий, которые бы доставляли ему столько удовольствия, как смотреть из полуциркульного окна на маленькую девочку, которая катала свой обруч по тротуару, или на мальчиков, игравших в мяч. Их голоса также были ему очень приятны, когда они доносились к нему издали, перемешанные между собой и жужжащие, как мухи на окне, озаренном солнцем.
Клиффорд, без сомнения, рад бы был разделять их игры. Однажды после обеда он почувствовал непреодолимое желание надувать мыльные пузыри. Любимая его забава с сестрой, когда они оба были детьми, как сообщила Гефсиба потихоньку Фиби. Но посмотрите на него в полуциркульном окне, с соломенной трубочкой во рту! Посмотрите на него, с его седыми волосами и вялым, ненатуральным смехом на лице, все еще не потерявшем этой прелестной грации, которую и злейший его враг должен признать неизгладимою, если она так долго сохранилась! Посмотрите, как он пускает мыльные пузыри из окна на улицу! Что такое эти воздушные шарики, если не маленькие, неосязаемые миры с отражением на их почти несуществующей поверхности огромного мира в ярких цветах воображения? Любопытно было наблюдать, как прохожие смотрели на эти блистательные фантазии, когда они спускались вниз и превращали вокруг себя грубую атмосферу в легкую игру воображения. Некоторые останавливались, глядели несколько минут и, может быть, уносили прелестное воспоминание о мыльных пузырях до самого поворота на другую улицу; другие взглядывали с досадой вверх, как будто бедный Клиффорд обижал их, заставляя прекрасные видения летать так низко над пыльной дорогой. Многие поднимали палец или палку, чтобы пронзить мыльный пузырь, и злобно радовались, когда воздушный шарик, с изображенными на нем небом и землей, исчезал, как будто его никогда и не было.
Наконец, в то самое время, когда один пожилой джентльмен весьма почтенной наружности проходил мимо, большой мыльный пузырь спустился величественно вниз и лопнул как раз у него на носу. Он поднял глаза – сперва с суровым, острым взглядом, который в одно мгновение проник в темную глубину полуциркульного окна, потом с улыбкою, которая как будто разлила знойный воздух на расстоянии нескольких ярдов кругом.
– Ага, кузен Клиффорд! – вскричал судья Пинчон. – Как! Вы все еще надуваете мыльные пузыри?
Его голос, казалось, был предназначен произвести добродушные, ласковые звуки, но в нем высказалась едкость сарказма. Что касается Клиффорда, то его лицо покрылось смертной бледностью. Независимо от какой-нибудь определенной причины ужаса, которая могла скрываться в его опыте, добродетельный судья внушал ему этот врожденный и первоначальный страх, который свойственен слабым, нежным и чутким характерам в присутствии грубой силы.
Трудно предположить, чтобы жизнь особы, от природы такой деятельной, как Фиби, могла ограничиться тесными пределами старого Пинчонова дома. Потребности Клиффорда были удовлетворяемы ею в долгие летние дни значительно раньше захождения солнца. При всем спокойствии его дневного существования это существование истощало, однако, ресурсы, которыми он жил. Не физическое движение утомляло его, потому что – за исключением короткой работы мотыгой, прогулки по саду или в дождливую погоду обхода пустых комнат – он чувствовал постоянную склонность оставаться в неподвижности относительно всякого труда членов и мускулов. Но или в нем таился тлеющий огонь, съедавший его жизненную энергию, или монотонность, которая бы произвела оцепеняющее действие на ум, организованный иначе, не была монотонностью для Клиффорда. Может быть, он был в состоянии вторичного развития и восстановления и черпал постоянную пищу из того, что поражало его зрение, слух или ум, тогда как для людей, более знакомых с миром, окружавшая его сфера казалась слишком обыкновенною. Как для неразвитого ума ребенка все, что на него действует, есть уже деятельность и напряжение, так оно, может быть, было и для ума, подвергшегося новому витку развития после его надолго остановленной жизни.
Как бы то ни было, только Клиффорд обыкновенно отходил ко сну совершенно истощенный, когда солнечные лучи еще пробивались сквозь его постельные занавески или отражались с последним блеском на стенах комнаты. И в то время, когда он таким образом засыпал рано, подобно всем детям, и видел во сне детство, Фиби могла свободно предаваться влечению собственного вкуса в остаток дня и вечером.
Эта свобода была необходима для здоровья даже характера, так мало расположенного к болезненным влияниям, каков был характер Фиби. Старый дом, как мы уже сказали, проникнут был разрушительной гнилью ветхости; вредно было бы ей дышать только такой атмосферой. Гефсиба, несмотря на некоторые драгоценные черты, искупавшие ее недостатки, сделалась будто бы помешанной от долгого добровольного заключения в этом единственном месте, без всякого другого сообщества, кроме известного набора мыслей, кроме одной привязанности и одного горького чувства обиды. Клиффорд, как это легко понять, был так недеятелен, что не мог иметь нравственного влияния на своих собеседниц, несмотря на всю искренность и исключительность их соотношений. Но симпатия между человеческими существами разлита гораздо тоньше и повсеместное, чем мы думаем; она существует между различными классами органической жизни и сообщается от одного другому. Например, цветок, как заметила Фиби, скорее начинал увядать в руке Клиффорда или Гефсибы, чем в ее собственной. Вследствие того же закона эта цветущая девушка, обращая все свое дневное существование в цветочный аромат для этих двух больных душ, неизбежно должна была поникнуть, побледнеть скорее, чем если б она покоилась на более молодой и счастливой груди. Если б только она от времени до времени не предавалась увлечению своего живого характера и не дышала уличным воздухом в прогулках по предместью или прохладой океана, бродя вдоль морского берега; если б она не повиновалась иногда желанию, врожденному в новоанглийской девушке, прослушать метафизическую или философскую лекцию, или посмотреть семимильную панораму, или побывать в концерте; если б она не ходила по городским лавкам, закупая запас товаров для лавочки Гефсибы и увеличивая свой гардероб какою-нибудь лентой; если б она также не прочитывала Библии в своей комнате и не посвящала части своего времени на то, чтобы подумать о своей матери и родной деревне; если бы,