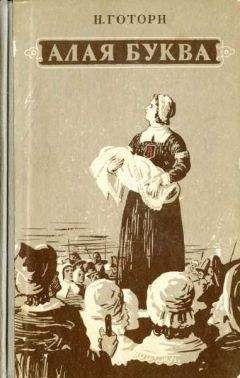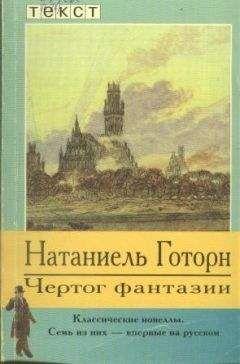посредством дыхания в сердца людей и выходил оттуда облеченным в слова молитвы.
Клиффорд сидел у окна с Гефсибой, наблюдая за соседями, проходившими по улице. Все они, как бы ни были грубо вещественны в прочие дни, были преображены влиянием воскресенья, так что даже одежды их – был ли это приличный фрак пожилого человека, старательно вычищенный в тысячный раз, или первый пальто-мешок мальчика, оконченный только вчера иголкой матери, – носили на себе какой-то высший отпечаток. Фиби также вышла из-под портала старого дома со своим маленьким зеленым зонтиком и оглянулась с прощальной дружеской улыбкой на лица, глядевшие из полуциркульного окна. В ее наружности были теперь привычная радость и вместе с тем какое-то благоговейное чувство, так что мы могли с нею играть и вместе с тем уважать ее более, чем когда-либо. Она была подобна молитве, произносимой тем языком, которым самая лучшая мать разговаривает со своим ребенком. Фиби была свежа, воздушна и легка в своем уборе, как будто ничто из того, что на ней было – ни ее платье, ни ее легкая соломенная шляпка, ни ее маленький носовой платок, ни ее белоснежные чулки, – как будто ничто не было еще ни разу не надето, а если и было, то сделалось оттого еще свежее и получило такой запах, точно как бы полежало между розами.
Девушка махнула рукой Гефсибе и Клиффорду и пошла вдоль улицы, она была олицетворенная вера, теплая, простая, искренняя, облеченная в вещество, способное жить на земле, и оживленная духом, достойным жизни на небесах.
– Гефсиба, – спросил Клиффорд, проводив Фиби глазами до самого угла улицы, – ты никогда не ходишь в церковь?
– Нет, Клиффорд, – отвечала она, – не хожу много-много уже лет!
– Если б я был там, – продолжал он, – то мне кажется, что я молился бы усерднее, когда бы вокруг меня молилось столько человеческих душ.
Она посмотрела ему в лицо и заметила на его глазах тихие, естественные слезы, потому что сердце его рвалось из груди и изливалось посредством глаз в восторженном богопочитании и теплой любви к ближним. Это душевное волнение сообщилось и Гефсибе. Она взяла его за руку, и они решились идти вместе преклонить колени – оба так долго отделенные от мира и, как Гефсиба теперь сознавала, едва оставшиеся друзьями Ему превышнему, – преклонить колени посреди народа и примириться разом с Богом и людьми.
– Милый брат, – сказала она с чувством, – пойдем! Мы никуда не причислены, у нас нет ни в одной церкви места для коленопреклонения, но пойдем в какое-нибудь место богослужения и поместимся хоть у входа. Мы бедные, оставленные всеми люди… может быть, для нас отворится какая-нибудь скамейка!
И вот Гефсиба и ее брат собрались как могли скорее, нарядились в лучшее свое, старого покроя платье, висевшее в шкафах или спрятанное в сундуки так давно, что оно покрылось бледностью и прониклось гнилым запахом старины, – нарядились в это полинялое платье и отправились в церковь. Они спустились вместе с лестницы – худощавая, пожелтевшая Гефсиба и бледный, истощенный, подавленный старостью Клиффорд. Они отворили наружную дверь, перешагнули через порог, и оба пришли в замешательство, как будто очутились в присутствии всего мира и все человечество устремило на них глаза. Небесный Отец их как будто отвратил от них в ту минуту свой взор и не послал им ободрения. Теплый, солнечный воздух улицы произвел в их теле дрожь. Сердца их также содрогнулись при мысли сделать еще один шаг.
– Это невозможно, Гефсиба! Слишком поздно! – сказал Клиффорд с глубокой горестью. – Мы привидения! Мы не можем смешиваться с людьми, не должны существовать нигде, как только в этом старом доме, в котором мы осуждены жить привидениями! Да кроме того, – продолжал он с нежною, характерной для него чувствительностью, – ничего не было бы в этом привлекательного. Неприятно и подумать, что я должен внушать ужас моим ближним и что дети станут прятаться за юбки своих матерей и глядеть на меня оттуда!
И они воротились в сумрак коридора и затворили дверь. Но, поднявшись снова по лестнице, они нашли всю внутренность дома в десять раз печальнее, а воздух в десять раз гуще и тяжелее против прежнего, и все от одного мига свободы, которая повеяла на них с улицы. Они не могли убежать из своего заключения: их тюремщик только ради шутки отворил перед ними дверь, спрятался за нею, подглядывая, как они станут в нее прокрадываться, и на пороге безжалостно остановил их. В самом деле, какая тюрьма может быть темнее собственного сердца? И какой тюремщик неумолимее к нам, чем мы сами?
Но мы бы представили неверное изображение состояния Клиффордова ума, изображая его постоянно или преимущественно подавленным горем. Напротив, не было в городе другого человека – это мы смело будем утверждать – и вполовину моложе его, который бы насладился столькими светлыми и радостными минутами. На нем не лежало никакое бремя забот; он не знал никаких расчетов с будущим, которые прочие люди сводят и не оканчивают за всю жизнь только потому, что беспрестанно должны заботиться о средствах для своего физического и нравственного существования. В этом отношении он был ребенок – ребенок на весь остаток своей жизни, длинна или коротка она будет. В самом деле, жизнь его как будто остановилась на периоде немного позднее детства и сосредоточила все свои воспоминания на этой эпохе. Он был похож на человека, который оцепенел от сильного удара и возрождающееся сознание которого вынесло на поверхность из бездны забвения минуты, далеко предшествовавшие оглушившему его случаю. Он иногда рассказывал Фиби и Гефсибе свои сны, в которых он постоянно играл роль дитяти или очень молодого человека. Сны эти были так живы, что он однажды спорил со своей сестрой об особенном узоре ситца на утреннем платье, которое он видел на своей матери в предшествовавшую ночь. Гефсиба, не чуждая претензии на свойственное женщинам знание дела, утверждала, что узор этот немножко отличался от того, который он описывал, но когда вынула из старого сундука то самое платье, оказалось, что оно было именно таким, каким отразилось в его воспоминании. Если бы Клиффорд всякий раз, когда выплывал на поверхность похожей на сон жизни, подвергался мучению превращения из мальчика в старого, немощного человека, то ежедневное повторение этого удара было бы ему не по силам. Это превращение наполнило бы мучительной агонией весь его день, от утреннего полусвета до отхода ко сну, и даже тогда примешивало бы глухую, непонятную боль и бледный цвет несчастья в воображаемый юношеский цвет его сна.