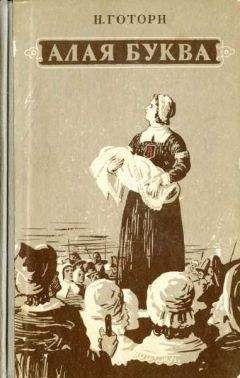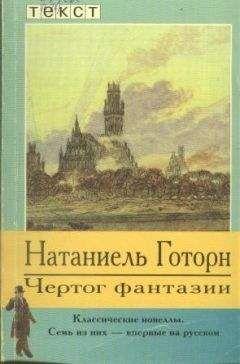отца.
– Это право, – продолжал мистер Пинчон, помолчав с минуту, как будто размышляя, что бы такое значил смех плотника, – это право готово было уже быть признано перед смертью моего дедушки. Люди, знакомые с ним близко, знали, что он не такой был человек, который бы затянул дело, встретив какое-нибудь затруднение. Напротив, полковник Пинчон был вполне человек практический, очень хорошо знакомый с общественными и частными делами и не мог обольщать себя неосновательными надеждами или решиться на план, который было бы невозможно исполнить. Поэтому надобно полагать, что у него были основания, неизвестные его наследникам, добиваться с такой уверенностью успеха в притязании на восточные земли. Словом, я уверен – и мои советники-юристы соглашаются с моим мнением, подтверждаемым притом до некоторой степени и фамильными нашими преданиями, – я уверен, что дед мой владел каким-то актом, необходимым для решения этого дела, но этот акт исчез с того времени.
– Весьма быть может, – сказал Мэтью Моул, и опять, говорят, на лице его мелькнула мрачная улыбка, – но что общего может иметь плотник с великими делами дома Пинчонов?
– Может быть, ничего, – отвечал мистер Пинчон, – а может быть, и много общего!
Тут они долго толковали между собой о предмете, интересовавшем владельца Дома о Семи Шпилях. Народное предание уверяет (хотя мистер Пинчон несколько затруднялся относительно рассказов, по-видимому, столь нелепых), что будто бы между родом Моула и этими обширными, недоступными еще для Пинчонов восточными землями существовали какая-то связь и взаимная зависимость. Говорили обыкновенно, что старый колдун, несмотря на то что был повешен, в борьбе с полковником Пинчоном взял над ним перевес, потому что взамен одного или двух акров земли он захватил в свои руки право на обширные восточные земли. Одна очень старая женщина, умершая недавно, часто употребляла метафорическое выражение во время вечерних посиделок, что множество миль пинчоновских земель похоронено в могиле старого Моула, хотя эта могила занимала маленький уголок между двух скал у вершины Висельного Холма. Кроме того, когда юристы разыскивали след потерянного документа, в народе пошли толки, что этот документ найдут только в руке колдуна, давно превратившегося в скелет. Этой нелепости проницательные юристы придали такую важность (впрочем, мистер Пинчон не сообщил об этом плотнику), что решились отрыть потихоньку могилу старого Моула, но ничего не было найдено, увидели только, что правой руки скелет не имел вовсе.
Замечательны, однако, были в народных толках намеки – впрочем, сомнительные и неопределенные – на участие в пропаже документа сына колдуна Моула, отца молодого плотника. В этом случае сам мистер Пинчон мог подтвердить отчасти факт собственным свидетельством. Он был в то время еще ребенком, однако помнил – или ему казалось, что он помнит, – что отец Мэтью Моула в день смерти полковника что-то чинил в той самой комнате, в которой он теперь разговаривал с плотником. Он даже ясно припоминал, что некоторые бумаги, принадлежавшие полковнику, были разбросаны в это время по столу.
Мэтью Моул понял высказанное этим воспоминанием подозрение.
– Отец мой, – сказал он, но все-таки с загадочной, мрачной улыбкой на лице, – отец мой был человек честный! Он не унес бы ни одной из этих бумаг, даже если б этим мог возвратить свои утраченные права!
– Я не стану перебрасываться с тобой словами, – заметил воспитанный за границей мистер Пинчон с надменным спокойствием, – мне не пристало сердиться на тебя за какую-нибудь грубость в отношении к моему деду или ко мне. Джентльмен, желая иметь дело с человеком твоего звания и образованности, должен наперед рассчитать, стоит ли цель неприятностей. В настоящем случае она стоит.
Вслед за тем он возобновил разговор и предлагал плотнику значительные суммы денег, если он даст ему объяснения, которые помогут отыскать документ, с которым связано обладание восточными землями. Мэтью Моул долго, говорят, выслушивал равнодушно эти предложения, но наконец странно как-то засмеялся и спросил, согласен ли будет мистер Пинчон отдать ему за этот столь важный документ землю, принадлежавшую старому колдуну, со стоящим на ней теперь Домом о Семи Шпилях.
Здесь странное прикаминное предание, которого я придерживаюсь в своем рассказе, не передавая всех его причудливостей, говорит о весьма странном поведении портрета полковника Пинчона. Портрет этот, надобно вам знать, был, по общему мнению, так тесно связан с судьбой дома и просто-таки магически прикреплен к стене, что если б его снять, то в ту же самую минуту все здание рухнуло бы и превратилось в кучу пыльных развалин. Во время предшествовавшего разговора между мистером Пинчоном и плотником он хмурился, сжимал кулак и подавал другие подобные знаки чрезвычайного раздражения, не обращая на себя внимания ни одного из собеседников. Наконец при дерзком предложении Мэтью Моула уступить ему семишпильный дом он потерял всякое терпение и выразил явную готовность выскочить из рамы. Но о таких невероятных приключениях говорится только в прикаминных сказках.
– Отдать дом! – воскликнул мистер Пинчон, будучи в изумлении от такого предложения. – Если б я это сделал, то мой дед не лежал бы спокойно в своем гробу!
– Да он и без того не лежит, если правду толкуют в народе, – заметил спокойно плотник. – Но это дело касается более его внука, чем Мэтью Моула. Других условий у меня нет.
Хотя мистер Пинчон находил сперва невозможным согласиться на предложение Моула, однако, подумав о нем с минуту, согласился, что об этом можно по крайней мере рассуждать. Сам он не питал особенной привязанности к дому, и проведенное здесь детство не было для него соединено с приятными воспоминаниями. Напротив, по истечении тридцати семи лет присутствие его покойного деда все еще как будто омрачало стены дома, как в то утро, когда он, будучи мальчиком, с ужасом увидел нахмуренного старика, сидящего в кресле мертвым. Сверх того, долгое пребывание мистера Пинчона в иностранных государствах и знакомство со многими наследственными замками и палатами в Англии и с мраморными итальянскими дворцами заставили его смотреть с пренебрежением на Дом о Семи Шпилях, как в отношении великолепия, так и в отношении удобства. Это был дом, совершенно не соответствовавший образу жизни, какой должен был вести мистер Пинчон, получив свои поземельные права.
Управитель его мог снизойти до того, чтобы здесь поселиться, но ни в каком случае сам владелец огромного имения. Он намерен был в случае успеха вернуться в Англию, даже, правду сказать, и теперь он не решился бы жить в Доме о Семи Шпилях, если бы его собственное состояние и состояние его покойной жены не начали подавать признаков истощения. Удайся тяжба по поводу восточных земель, доведенная некогда