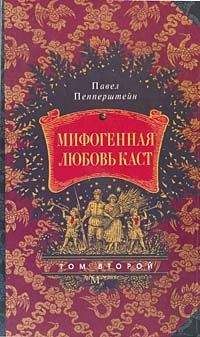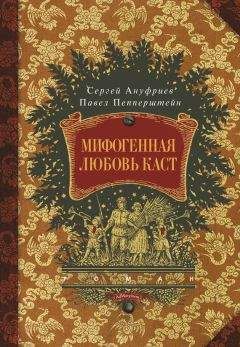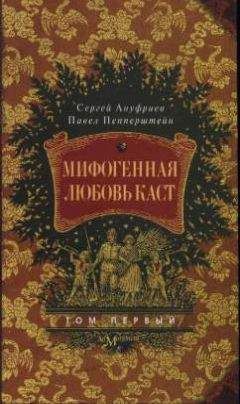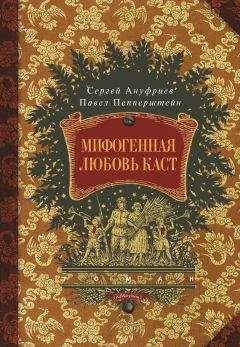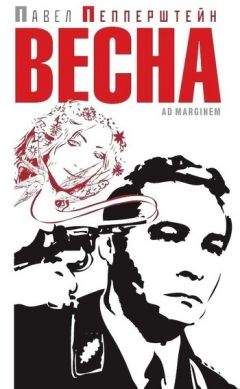Умирающий вдруг отчетливо увидел картину, которая висела на стене. Большое полотно в пышной золотой раме. Живопись темная, зеленовато-коричневых, могильных, склизких тонов. На картине оказался изображен он сам, в предсмертной агонии рвущий на себе воротник. Глаза, еще живые, уже остекленели от яда. Он стоял в темном проеме двери, сделанной из толстого металла, как дверь колоссального банковского сейфа. Вокруг виднелось техническое помещение, вроде бы котельная при фабрике. Посреди тянулся длинный стол, покрытый персидским ковром, уставленный полными красными и пустыми зелеными винными бутылками. За столом сидели пьяные эсэсовцы и фашистские генералы, один из них слал, в расстегнутом черном мундире и мятой белой рубашке под мундиром. Старый генерал с перекошенным от горя лицом сидел на стуле, сжимая коленями чемодан.
За своим плечом, в темном дверном проеме, напоминающем могильную яму, он различил еще какое-то лицо — худое, изможденное, чем-то напоминающее лицо революционера-каторжанина с картины Репина «Не ждали».
Он не успел всмотреться в это лицо, потому что поперек картины вдруг зажглась яркая белая светящаяся надпись:
КОНЕЦ.
В этот момент новая судорога пробежала по телу умирающего, сведенной рукой он нажал на курок браунинга, пуля прошла сквозь него, и он упал на ковер. Дунаев выстрела не слышал (он слышал какую-то странную музыку, довольно веселую, вроде бы наигрывание на барабанчиках и рожках, что-то старинно-народное, может быть, ирландское, может быть, даже с волынками). Но он понял, что «бутылка», в которой он сидел, разбилась. Почему-то он продолжал сидеть среди ее осколков и сквозь один из осколков внимательно смотрел на картину. Надпись КОНЕЦ погасла, изображение тронулось, словно внутри рамы продергивали ленту, и оказалось, что перед ним висит картина Левитана «Над вечным покоем». Вдруг что-то щелкнуло, и на поверхности этой картины зажглась более мелкая, но более яркая надпись:
ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ.
Голос радиодиктора Левитана, сочный, торжествующий, произнес:
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!СЕГОДНЯ, В НОЛЬ ЧАСОВ НОЛЬ МИНУТ,ГЕРОИЧЕСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ НАЧАЛА ШТУРМ СТОЛИЦЫ ГЕРМАНИИ — БЕРЛИНА! ДНИ ФАШИСТСКОЙ ИМПЕРИИ СОЧТЕНЫ!
Над Вечным покоем! В картине Левитана открылся вдруг перед Дунаевым смысл слова «левитация». Он понял, что такое полет. Он давно уже умел летать, летал буднично, без эмоций. Но теперь он не летел — он левитировал. Парил, зависнув на огромной высоте над островком на большой ветреной реке, где виднелся одинокий северный скит. Стало так хорошо, как обычно бывает после смерти! Мощной волной хлынуло церковное пение. Омывающее, золотистое. Слова молитв слышались неясно, словно из-за стены, но пение опьяняло душу. Сначала, кажется, пели «Ныне отпущаеши…», затем покаянный канон, затем хлынули какие-то никогда прежде не слышанные Дунаевым древние молебствия. К басам, от которых вибрировал воздух, примешивались тоненькие голоски.
«Священство, — догадался парторг. — Священство приближается!» И действительно, ударил колокол, затем кто-то тоненько пропел без слов, одним лишь извивающимся голосом, и они показались. Словно весь воздух зацвел ими, как зацветает ряской речная вода. Мириады старцев в крошечных сверкающих облачениях, с крупными алмазными слезами на морщинистых смеющихся лицах, с хоругвями, двигались прямо к глазам, как будто собираясь влиться в зрачки. Ресницы его увлажнились от слез и елея, и в этих огромных ресницах стояли теперь два старца в белых камилавках, как часовые под дождем, охраняющие его мокрые от счастья глаза. Дунаев догадался, что ему предстоит Венчание.
«Браки совершаются на небесах», — говорит народ. Но народ не видит, КАК они на небесах совершаются. Дунаев же видел это теперь воочию. Он наблюдал этот величественный ритуал, являющийся небесным аналогом того простого действия, которое он и Синяя совершили, выпив на брудершафт по чашечке чаю. Она еще жалела, что нет священника! Теперь их окружали тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллиарды священников, и все новые и новые ручейки и отдаленные процессии вливались в эту сверкающую слезами и бриллиантами, поющую массу.
Странным казалось лишь то, что Синяя и Дунаев не стояли, а лежали перед алтарем, головами к аналою, причем оба совершенно голые, как в тех неловких сновидениях, когда оказываешься вдруг голым и лежащим в кровати посреди людной улицы. Впрочем, особой неловкости они не чувствовали. Какие-то крошечные существа (видимо, очень мелкие ангелы) носились над ними в воздухе и ткали нечто вроде фаты — полупрозрачное, парящее, паутинистое. Тончайшее покрывало, покров… Дунаев уже знал имя этого покрова — Палойа. Они лежали, взявшись за руки, а над ними толпами стояло поющее священство, и трепетали в солнечных лучах бесчисленные свечные огоньки. Свет был влажный, свежий, как во время грибного дождя. И действительно, грибной дождь — дождь при ярком солнце — струился по их телам, по митрам и хоругвям. Пахло весенними березовыми листьями, и ладаном, и снегом, и ванилью, и соленым морем, и радугой, и солнцем, и грибами, и тропинками, сбегающими в лесные овраги…
— Мы в России. Чувствуешь? — прошептал парторг. Синяя кивнула, не открывая глаз.
— Россия везде, — снова прошептал Дунаев. — Везде, где русский солдат. (Он чувствовал себя солдатом, и действительно, вдруг оказалось, что он не наг, а одет в солдатскую униформу — в сапогах, галифе, гимнастерке, плотно перепоясанный и схваченный ремнем и портупеями, с пистолетом в кожаной кобуре на поясе и орденом Боевого Красного Знамени на груди.)
«Солдат, — мысленно повторил он про себя. — Я солдат».
— Соли дать? — пропищал кто-то ему прямо в ухо, и тут же он почувствовал на своих губах отчетливый и резкий вкус соли, напоминающий о Сивашском перешейке. Он засмеялся. Тут же бас над ним пропел:
— Венчается раба Божия Мария рабу Божию Владимиру.
— Венчается раб Божий Владимир рабе Божией Марии.
Тысячи древних ручонок протянулись со всех сторон, поддерживая над его лицом большую, усыпанную драгоценными камнями венчальную корону. Такую же корону держали над лицом Синей.
Затем эти короны опустили прямо на их лица с пением и смехом. Дунаев видел теперь тускло сверкающее пространство внутри короны, где отсверкивали огни свечей в золоте, нечто похожее на внутреннее пространство храма или капеллы. Сквозь прорези в короне ему видны были небеса и священство. Все они улыбались, и на всех лицах, молодых и древних, среди бород и морщин, блестели белоснежные молочные зубы. Только одно лицо не улыбалось. Это лицо Дунаев видел первый и последний раз в жизни — оно выглядывало между двух особенно могучих иерархов, которые упоенно хохотали, и было это личико бесполым, припухшим, с розовым влажно-приоткрытым ртом, как бывает у девочек-даунов, и такими же розовыми, как бы заплаканными глазами, глядевшими куда-то мимо Дунаева с бессмысленной печалью.
Но невеселье этого личика не могло смутить общего счастья, в котором парторг участвовал всей душой.
Потом все изменилось. Священство исчезло. Они с Синей лежали рука об руку в чем-то, напоминающем стеклянный саркофаг. Дунаев по прежнему был одет как солдат. Синяя оставалась обнаженной. Она вроде бы спала и только слегка поводила голыми худыми плечами, словно от холода.
В тихий час цветения акаций
На пороге счастья и весны
Девушкам в неполных восемнадцать
Снятся одинаковые сны.
По широкой улице промытой
В медленном течении минут
Молодые люди гроб открытый
В катафалке бережно везут.
А она, в тюльпанах утопая,
Спит, не замечая ничего,
Юная, прекрасная, нагая —
Вечной жизни свет и торжество![10]
Вокруг них темнели гранитные или малахитовые стены, кое-где подсвеченные светильниками. Неподвижность вдруг стала тяготить Дунаева.
«Не умер же я, в самом деле?» — подумал он с оттенком раздражения.
Он приподнял руку. Рука двигалась как-то странно, рывками. Он приподнял вторую руку, и она вдруг резко, как у робота, подскочила вверх и ударилась о стекло саркофага. Затем произошло что-то непонятное: то ли стеклянная крышка плавно отъехала в сторону, то ли она разбилась, и Дунаев оказался засыпан осколками, причем осколки были мягкие и тающие, как лед или леденцы.
— Володя, пора вставать, — тихо сказал чей-то мудрый голос. Но Дунаев и так уже стоял.
Гроб качнулся, когда он из него вылезал, — оказалось, он подвешен на тяжелых цепях. Синяя последовала за Дунаевым, не открывая глаз. Дунаев взял ее за руку и повел куда-то. Она двигалась как лунатик. Лицо сохраняло спящее выражение, глаза пребывали закрыты, губы блаженно улыбались, на голове сияла венчальная корона. Сам парторг двигался еще более странно: каждый шаг давался ему с трудом, сапоги громко, неестественно скрипели. Как робот, которого слишком щедро смазали маслом, он источал жирную, ароматную, густую жидкость, что-то вроде елея или смолы — она струилась из каждой поры его тела, булькала в сапогах, чавкала в карманах. Тело при этом производило впечатление тяжелого свертка, пропитанного смолой.