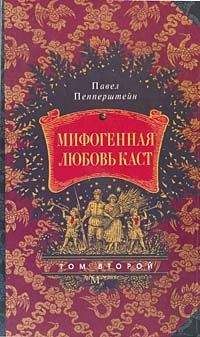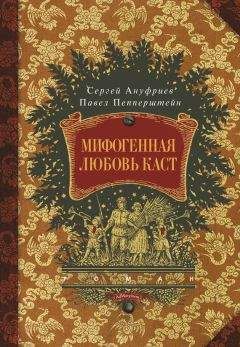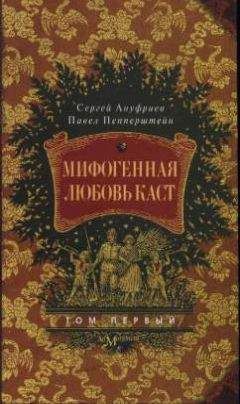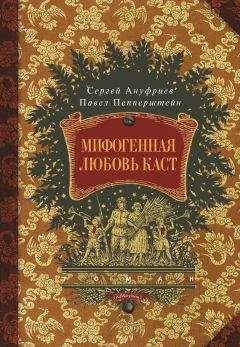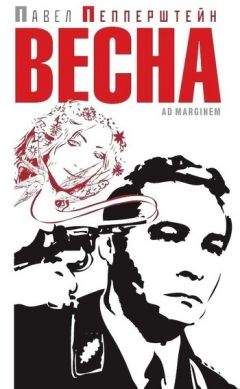— Меня мумифицировали, — догадался парторг. — Как Ленина.
Это не удивило его. Ведь война была выиграна, и он стал главным героем этой войны, Победителем, вытянувшим на своих плечах всю мучительную трудность Победы. Поэтому его не удивляло, что тело его сделали нетленным.
«Обычно мумии делают из трупов, — подумал Дунаев. — А меня вот мумифицировали живым, не умерщвляя. Теперь я никогда не умру и никогда не испорчусь. Мне ничего не грозит».
Гордо выпрямившись, он вел за руку летаргическую Синюю по гранитным коридорам, и было тихо, так тихо, как бывает глубоко под землей, только очень громко скрипели его сапоги, и чавкала в них ароматная смола, и капало густое масло, ароматное и тяжелое, из рукавов. Оно же застывающими янтарными струйками текло из ноздрей, из ушей, из глаз, из всех пор его тела. «Да, пропитали на совесть, — подумал парторг, с нежностью вспоминая Священство. — Это они постарались. Засмолили. Замолили. Засмолили с молитвой».
Смоленск. Смольный. Смоляное чучелко. «Моя душа проста, соленый ветер и смольный дух сосны ее питал…» В общем-то, даже не святое Священство — он САМ засмолил себя. Это была САМОМУМИФИКАЦИЯ. Собственно, всю войну он только этим и занимался — делал мумию из самого себя. Это началось давно, и все его встречи были этапами этого пути. Началось давно — с немых старшин, с лисоньки, с развороченного, выпотрошенного зайчика. Именно Заек преподал ему урок самопотрошения, показал, как следует обходиться без внутренностей, как можно весело и разухабисто жить наизнанку, будучи вывернутым шиворот-навыворот. И гостеприимный Шиворот принял Дунаева, и качало его по блаженным Заворотам, и на Выворотах плясал он и свистел, как соловей-уголовник. А после Зайка сразу же подоспел новый учитель — Мишутка, источающий клейкие смоляные струйки, которые так цепко тогда ухватили парторга. А дальше… Пошло-поехало. Скатанный в рулон Волчок, законсервированный в собственной крови. И пропускание сквозь Бо-Бо, и воссоздание себя из говна, и первое омаливание Священством, и получение Девочки в голову, и Избушка, и ее смолистые, улыбающиеся трещинами бревна… И дальше — кипящий Смоленск, и уроки Бессмертного, и навыки бессмертия, и бесчисленные смерти, самопоедания, зимовья, сны. И главное — пропитка. Непрекращающаяся пропитка в течение всех лет войны — ядами, смолами, грибами, магическими зельями, собственным телом, чужими жизнями, слезами, солью, откровениями, галлюцинациями…
И, конечно же, любовью — Главным Клеем, склеивающим воедино щепотки миров. Дунаеву вдруг вспомнился один паренек, который работал у них на заводе, на вулканическом цеху, и увлеченные рассказы этого паренька про технологии производства резины, про каучуконосные растения, про застывающий белый сок, про латекс. По молодости лет этому пареньку казалось все это таким увлекательным, и он так гордился своей работой! Работа действительно была важной и интересной — они там бились над новыми, особенно крепкими, гибкими и прочными сортами резин, которые можно было бы потом использовать в машиностроительной промышленности — для шин тяжелых грузовиков, тракторов, комбайнов. Для эскалаторов метро, для конвейерных лент… И они добились своего — выработали новые смеси, новую технологию вулканизации, что позволило делать новые, сверхпрочные сорта резин. Они добились…
А началось все с человеческих глаз, рассматривающих растение. Началось с рук, которые взяли нож и умелым движением сделали надрез коры. И выступил сок — белый, с таинственным ароматом, медленно застывающий. Латекс.
Парторгу вспомнились взволнованные слова того паренька с вулканического (того парня, того самого парня, за которого он и прошел эту войну): «Латекс, Владимир Петрович, это великая тайна. Само слово „латекс“ происходит от итальянского „латте“, что означает „молоко“. Но в конце слова к нему прибавляется „икс“, знак неизвестного. Латекс — это „молоко икс“, неизвестное молоко или же Молоко Неизвестного. И никому сейчас не дано предугадать, какие возможности кроются в этом «молоке икс». Разработка этих возможностей — дело будущего. И этому будущему, Владимир Петрович, остается только позавидовать. Впрочем, и нам будут завидовать, страстно завидовать наши потомки — ведь мы одни из первых прикоснулись к тайнам сока, омывающего мировой механизм».
Тогда, много лет назад, когда парторг услышал эти слова, он не придал им особого значения. Выслушал, конечно, внимательно, одобрительно качая головой, радуясь на энтузиазм молодых… Теперь он понимал это по-другому. Истина всегда мелькает где-то позади, затерянная в толще случайных и полузабытых разговоров.
Дунаев искоса посмотрел на Синюю. Ее-то тело не было мумифицированным — оно казалось просто живым и прекрасным телом молодой девушки. Только узкая ладонь, которую сжимал в своей руке Дунаев, теперь была испачкана в смолистом масле, стекавшем из Дунаевского рукава, а также обильно сочившемся из центра его ладони.
Не открывая глаз, Синяя произнесла:
— Убежал из кухни клей…
Сапоги Дунаева скрипели все сильнее, подошвы стали прилипать к мраморному полу, и ему приходилось с усилием отрывать их. Его отвердевшие одежды — гимнастерка, галифе, пилотка — при ходьбе громко шуршали и хрустели.
Они прошли длинный и величественный коридор, затем стали подниматься по обширной, полутемной лестнице. Затем был еще коридор и еще лестница. И, наконец, перед ними предстали закрытые двери — темные, бронзовые, украшенные выпуклыми звездами. Время на миг замедлилось, загустело, потом снова пошло быстрей. Нечто значительное, огромное ждало их за этими дверьми — словно бы кто-то необозримо колоссальный затаил дыхание, как спрятавшийся в тени великан. Несмотря на свою засмоленность, Дунаев ощутил трепет, и смола сильнее потекла из ушей.
Твердой рукой в скрипучем просмоленном рукаве он толкнул бронзовую дверь. Она отворилась.
Красная площадь!
Красная площадь простерлась перед ними. Заполненная бескрайним морем людей, она неподвижно, застыв в грозной и тревожной тишине, лежала под ночным небом. Слепящий белый свет мощных прожекторов осветил двоих воскресших. Сотни тысяч глаз устремились на две фигуры, появившиеся в дверях Мавзолея. Обнаженная девушка с закрытыми глазами и мужчина в солдатской форме, оба в золотых венчальных коронах. В белоснежном свете прожекторов они стояли, взявшись за руки. Свободной рукой парторг слегка заслонил глаза от резкого света.
Толпа молчала. И страшная тишина висела над площадью.
Прямо перед собой парторг вдруг увидел стальной микрофон на металлическом штыре, хирургически лучащийся в сиянии прожекторов. Он почувствовал, что должен что-то сказать. Все эти люди в оцепенении предельного ужаса и надежды ждали от него слова.
Непослушной, просмоленной рукой он неуверенно взялся за микрофон. Струйка священного масла побежала по стали вниз, пролившись из рукава. Рот был до краев заполнен благоуханным елеем.
— Мы победили… — с колоссальным трудом проговорил он. Больше он не смог ничего сказать — елей потек по подбородку. Он захлебнулся. Но его булькающий, словно бы из болота голос, тихо и невнятно произнесший эти слова, с чудовищной мощью разнесся по площади. Даже зазвенели стекла в темных окнах ГУМа. Волна словно бы вздоха пронеслась по народному морю. Какой-то тонкий женский голос послышался из толпы:
— Слава тебе, Господи!..
И тут же со всех сторон, непонятно откуда, точнее, отовсюду, с неба, и из-под земли, и со всех сторон хлынул нарастающий, зубодробительный бас: «СЛАВА!»
И хор подхватил: «СЛАВА!»
Толпа закрестилась и волнами стала опадать на колени. И уже слышались рыдания и вскрики. Где-то очень высоко куранты Спасской башни пробили двенадцать раз, и с последним ударом яркий, нестерпимо праздничный салют осветил небо, отразившись миллиардами разноцветных отблесков в воздетых к небу лицах, в расширенных зрачках, в слезах, льющихся по щекам, в эмали зубов, блестящих внутри смеющихся ртов, в золоте медалей, в летящих волосах подбрасываемых вверх детей, в погонах, в женских заколках, в запрокинутых чистых лбах, в обнимающихся мужчинах и женщинах, взахлеб целующих лица друг друга.
Салют Победы! Как описать его? Можно увидеть и в жизни, и во сне, и в кино превосходные фейерверки, превращающие ночное небо в сцену, где выступают в своих силах, не за страх, а за совесть, огни и искры, и огненные шары, и лиловые тучи, и рассыпающиеся белоснежные букеты, и горящие стрелы, посланные в небо из невидимых луков, и фонтаны, сотканные из небесного серпантина, и серебряные ливни, и звезды, растущие из своего центра, и вращающиеся спирали, и красные розы, и гроздья сирени, и подобия комет, оставляющие в небе сладкие полузолотые следы, и дымы, летящие в разных направлениях, и остывающий синий очерк уже погасшего видения, и снова с царской щедростью швыряемое в небо сокровища, жизнь которых так коротка. Можно увидеть. Можно визжать, и прыгать, и вращаться вокруг своей оси, и падать на колени, и кидать в небо свое мороженое. Но Салют Победы увидеть нельзя. Позволено только пережить его. Можно только самому стать этим салютом — вздыматься над площадью, и рассыпаться, и вспыхивать, и гаснуть, и опадать в синих дымах, и снова с артиллерийскими залпами выходить в небо, и раскрываться в нем, как цветок, и расправлять с воздушным хлопком свои могущественные лепестки во все края небес, и взвиваться огненной ракетой, словно целясь в сердце небесного невидимки, того темного и пустого воздушнвго гиганта, который там бродит среди звезд. Позволено в ликовании разбрызгивать себя разноцветными огнями по лицам, по океанам из лиц. Поскольку что такое «ликование», как не иллюминация ликов, лиц и личинок?