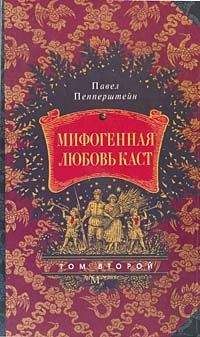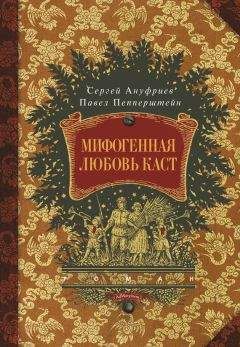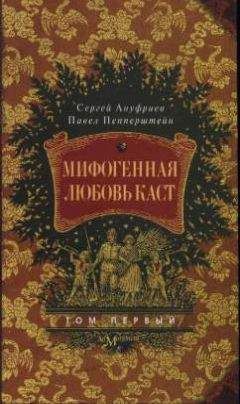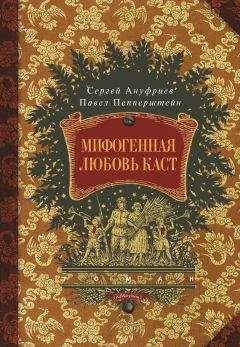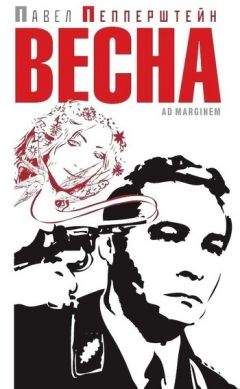— Ты боишься? — спросила Синяя шепотом.
— Конечно. Первый раз… с тобой-то…
— Не первый, — она усмехнулась.
Он вдруг понял. Его «невеста», маленькая девочка с темными и гладкими волосами, с которой он как-то раз прожил счастливый «медовый месяц» в странном ветреном раю, эта девочка была Синяя, одно из воплощений Синей. Или же Синяя была воплощением этой девочки? В общем-то, все они были одним существом — Синяя и девочки. И Фея Убивающего Домика, загорелая и светловолосая, и девочка с синим блюдом, и девочка с синими волосами, и веснушчатая в длинных чулках, и другие… У всех был один и тот же прямой и честный взгляд, невинный и задумчивый, внимательный, немного отстраненный, как бы тепло-холодный и свежий взгляд девочки-няни, заботливо присматривающей за куклами, за взбесившимися игрушками, за буйными детьми и клинически больными взрослыми. Как бы синий взгляд, хотя цвет глаз был разным. Взгляд всех этих девочек был синим, но не по цвету, а по смыслу. По самому смыслу синевы. «Так смотрит небо на землю», — еще раз подумал Дунаев. В этом взгляде присутствовал некий вопрос, и этот вопрос являлся частью «синевы». Скорее всего, это был вопрос о том, зачем вообще существует страшный земной мир. Взгляд этот содержал в себе сомнение в том, что этот мир вообще нужен. «В принципе, таким должен быть взгляд любой „настоящей девушки“», — подумал Дунаев. Он вспомнил глаза Зины Мироновой, их сомневающееся и задумчивое выражение, когда она говорила о следах, которыми являются все вещи. Тогда он не понял ее, а теперь понимал очень хорошо. Зина не была Синей, но и она имела причастность к вопросу о том, зачем существует мир скорбей.
В вихре любовного соития они забыли о принятом лекарстве. Препарат словно бы деликатно отложил свое действие, давая им время насладиться друг другом. И только когда оба кончили, когда сомкнувшиеся тела приобрели неподвижность, погрузившись в блаженное оцепенение, только тогда эликсир начал разворачиваться в сознании парторга, как веер.
За закрытыми веками начали струиться образы — ничего не значащие, анекдотические. Эти образы казались такими деликатными! Но, как в мастерской художника в ворохе набросков подспудно проступает Картина, так и в потоках этих предварительных образов назревало Превращение, некий Переброс, мгновенно изменяющий все и в то же время все оставляющий на своих местах. Как пролетарская революция, Безымянное Лекарствие разрушало мир до основания (ведь это был «мир насилья»), но затем почему-то бережно восстанавливало его таким же, каким он был до разрушения. Как будто работала бригада виртуозных реставраторов, возводящих из праха взорванный дворец.
«Дворец» восстанавливался в своем прежнем облике, но иногда казалось, что подменили материал и там, где была древесина, раскрашенная под мрамор, там теперь мрамор. Препарат снова и снова разыгрывал сцены смерти и воскресения — для этого он каждый раз «сливал» Дунаева с кем-то, кто в этот миг умирал. В этот раз он показался себе неким мужчиной, решившимся на самоубийство. Он был этим человеком и одновременно оставался собой, видя все сквозь него, как будто сидел в прозрачной бутылке. Вместе с этим человеком находилась женщина, внешне совсем не похожая на Синюю, но Дунаев чувствовал, что Синяя сейчас тоже сидит в этой женщине, как в такой же прозрачной бутылке. Как будто коричневое скромное платье, в которое Синяя оказалась одетой здесь, в Берлине, вместо ее всегдашних стратосферических одежд, это коричневое платье, знак смирения и очеловечивания, уплотнилось настолько, что образовало сплошной кокон в виде другой женщины, незнакомой Дунаеву. И словно бы все происходило в подвале, и подвал казался роскошным, с коврами, глубокими креслами и черными картинами в золотых рамах. Ситуация странным образом повторяла сцену только что происшедшего «венчания». Две чашечки из тонкого китайского фарфора, с повисшими сверху завитками пара (как на вывесках кофейных заведений) резко блестели на большом столе. Мужчина перекатывал на ладони две прозрачные ампулы с жидкостью. Мир догадывался, что это уже не лекарство, это — яд. Его руки (простые, бледные, когда-то энергичные, теперь же немного дрожащие, но не от страха, а скорее от возбуждения) вскрыли ампулы, вылили содержимое в чашки. Она спокойно смотрела на свою чашку, на пар. Мужчина переводил взгляд с этих чашек на пистолет, одиноко лежащий на огромной поверхности стола. Пистолет. Браунинг.
Мысли, принадлежащие этому человеку, проносились в их совместной с Дунаевым голове. Браунинг. Коричневое.
Коричневое! Слово «браун» прошло сквозь всю жизнь этого человека. Он родился в селении Браунау над Инном. В юности, будучи художником, он проводил долгие часы в музеях, вглядываясь во тьму старинных картин, мучительно раздумывая о тайне землистого, коричневатого колорита. Позднее он прочел у Шпенглера, что этот коричневатый колорит старых мастеров есть защитная окраска, которую принимает Культура, отступающая под натиском Цивилизации. Эта мысль произвела на него столь сильное впечатление, что, занявшись политикой, он предложил своим сторонникам носить коричневые рубашки. Ему удалось прийти к власти в Берлине, в городе, эмблемой которого является коричневый медвежонок с угловатыми ручками и ножками. Он полюбил женщину по фамилии Браун и заключил с ней брак в подземелье. Все его последние надежды на победу в войне, которую он затеял, он связывал с научными исследованиями, ими же руководил ученый фон Браун.
Ученый обещал изобрести бомбу, способную уничтожить все. Эту бомбу будущий самоубийца всегда мысленно называл «шоколадкой».
«А под конец — сладкое! — думал он. — В конце большого обеда полагается десерт».
Сладкое французское слово «десерт» связывалось в воображении с английским «desert» (пустыня). Коричневая сладкая пустыня, похожая на гладкую поверхность шоколадного эклера.
Но коричневое подвело его. Вернер фон Браун, Верный Из Коричневого, оказался предателем. И «шоколадка» так и не родилась в его подземельях.
Последние недели своей жизни будущий самоубийца поедал огромное количество эклеров. Их приносили на больших круглых подносах в комнату штаба, где он подробно обсуждал со своими генералами все ошибки и просчеты, допущенные в войне. Теперь пришло время наложить на себя свои бледные, энергичные руки. Женщина Браун оставалась с ним, они собирались разделить смерть пополам, как делили ложе, и орудия смерти тоже оказались связаны с коричневым: браунинг и отравленный шоколад. Ему казалось, он окружен говном. Цвет испражнений таился в картинах, в креслах, в коврах. Для другого человека мысль о говне разрушила бы пафос смерти, сделала бы последнее мгновение смехотворным. Для другого — но не для него! «Для вас же да не будет ничего нечистого!» — заповедал апостол Павел. Два любящих друг друга человека, уединившихся в этом подземелье, собрались уйти от всех гордо, тихо и быстро, как уходят с потоком воды две слипшиеся каловые колбаски.
Он кивнул. Она кивнула в ответ.
Они стали пить свой последний напиток, горький и теплый. Они успели поцеловаться. Целуя ее горькие губы с аптечным привкусом яда, он видел только лишь ее раскрытый синий глаз, огромный и сверкающий. Ярко блестящий слишком близко от его собственного дрожащего глаза. Око к оку… Значит, есть все-таки выход из коричневого…
Возлюбленной девы глаза голубые
Как небо над нашей страной.
В коричневом платье она приходила,
Окутана раннею тьмой.
И гулко на мрамор падала туфелька,
И тихий смех меж колонн.
Арийское тело — спортивное, узкое —
Той, в чьи губы влюблен.
В светильниках бронзовых венчики пламени.
Приди, дорогая, приди!
Мы будем нагие сплетаться на знамени,
Постеленном посреди.
Бой тел мускулистых в любовной гимнастике —
Ты словно богиня, я бог.
На фоне огромной языческой свастики
Узор из мучительных ног.
Вот и первая судорога пробежала по телу самоубийцы. Дунаеву, который сидел в нем, на мгновение стало хуже видно. Самоубийца отступил несколько шагов назад, ударился о стол, рука его нащупала браунинг. Кажется, он пытался стрелять в свою возлюбленную, но вокруг только сыпались прежде незаметные зеркала. Дунаев выстрелов не слышал. Вообще все было приглушено.
В приглушенном ритме танцевальной жизни
Офицер и женщина бродят меж зеркал,
Свой последний стон и лепет посвятив Отчизне
И коллекцию оргазмов, горькой смерти робкий кал.
Отравились наши дети и по-мертвому прижаты,
Как два маленьких котенка ночью на крыльце,
Он уткнул в ее колени лоб зеленоватый,
А она как будто дремлет с легкой тенью на лице.
Как ни корчись, как ни бейся —
Детка, их не оживить!
Два альпийских эдельвейса
Можно бездне подарить.
Умирающий вдруг отчетливо увидел картину, которая висела на стене. Большое полотно в пышной золотой раме. Живопись темная, зеленовато-коричневых, могильных, склизких тонов. На картине оказался изображен он сам, в предсмертной агонии рвущий на себе воротник. Глаза, еще живые, уже остекленели от яда. Он стоял в темном проеме двери, сделанной из толстого металла, как дверь колоссального банковского сейфа. Вокруг виднелось техническое помещение, вроде бы котельная при фабрике. Посреди тянулся длинный стол, покрытый персидским ковром, уставленный полными красными и пустыми зелеными винными бутылками. За столом сидели пьяные эсэсовцы и фашистские генералы, один из них слал, в расстегнутом черном мундире и мятой белой рубашке под мундиром. Старый генерал с перекошенным от горя лицом сидел на стуле, сжимая коленями чемодан.