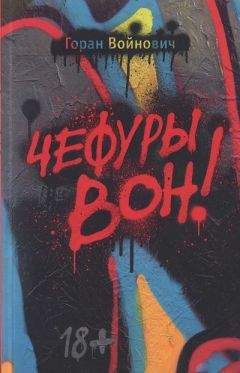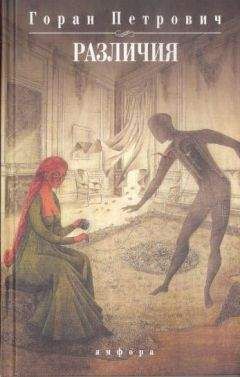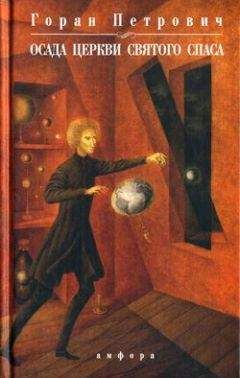Ну а потом финиш. Просто оборжаться. После этой их страшной облавы и всех этих упражнений — вытаскивают из подъезда Тасича. Три бойца его скрутили и тащат в свою тачку. Я думал, помру со смеху. Вы бы посмотрели на этого Тасича! Второго такого калеку еще поискать надо. Ему за полтинник, да еще и самый настоящий инвалид. Маленький, тощий — никакой, короче. Хромает, скрюченный весь. Да ему все вечно двери лифта придерживают и все такое. И на тебе — три бойца особого подразделения его теперь держат, чтоб он не сбежал. Чувак еле на ногах стоит. Вот лучше бы они Дуле немного потаскали, а мы с Деяном влёгкую этого Тасича пешочком в участок доставили. Мать их, уж Дуле-то на себе переть — точно покруче будет!
Это те самые фараонские дебилоиды. Все Фужины уже сто лет в курсе, что Тасич что-то там с наркотой мутит. Пеши и все прочие без конца к нему шастают. Однажды даже Живка сказал: «Не девка же он молодая, чтоб пацаны к нему все время ходили! Может, он им витаминки раздает?» Ой, Живка. Нет чтобы послать к нему какого-нибудь инспектора по безопасности дорожного движения, чтоб он его слегка поспрашивал и все такое, — они облаву устраивают, и спецназ!.. Конкретно больные на голову.
Я помог Деяну запихнуть Дуле в лифт, а дальше с ним не пошел, чтоб его сестра случайно не увидела, что я помогаю ему папашу таскать. Я пошел домой. И, как всегда, надеялся, что Радован уже спит, чтобы спокойно залечь. Но этот, особо одаренный, меня, видно, поджидал: стоило мне дверь открыть — он подходит ко мне, стаскивает с плеча тренировочную сумку и начинает ее потрошить. Вытаскивает мои трусы и начинает их обнюхивать. Мать его, Кунта Кинте[91] этого. Ясен пень, что меня не было на тренировке и трусы благоухают ариелем и персилом. Потом Радован достает носки, форму и тренировочные штаны. Давай еще кроссовки понюхай, от них до сих пор такая вонь, что тебя стошнит. Ничего не говорит, а только злобно швыряет сумку на пол и типа идет спать. А я стою там, посреди коридора, — даже дверь не успел закрыть, — стою как обосранный. Мать твою, Радован, ты начнешь когда-нибудь разговаривать или нет?! Пошел бы ты с такими приколами! Идиот.
Ранка родилась в Дервенте, но ее семья потом сто раз переезжала из одного боснийского города в другой. В начальную школу она ходила в Баня-Луке, в торговый техникум — в Зенице. После этого они переехали в Високо, где она и встретилась с Радованом, который приехал в отпуск на свадьбу моей тетки Ружицы и Милана. Ранка тоже была на свадьбе: ее брат Драгиша был другом Милана. На этой самой свадьбе Радован и Ранка как раз и познакомились, а потом Радован позвонил в Словению и попросил немножко продлить ему отпуск. Социализм, блин, и все такое. И продлил себе отпуск аж на два месяца, тогда они с Ранкой и поженились. После этого он еще раз позвонил в Словению, чтоб его взяли обратно на работу, — и его без проблем приняли. В Високо же он ни в какую не хотел оставаться, из принципа, так как в Словению его батя Джордже заслал, и поэтому Радован решил, что принципиально, назло ему там и останется, даже если будет подыхать с голоду. Ранка сперва не хотела ехать, но потом согласилась, потому что Радован сильно настаивал. Они приехали в Словению и полгода жили в однокомнатной квартире вместе с Альмиром и Энисой. Альмир и Радован вместе работали, а Ранка и Эниса типа искали работу и нашли в каком-то рабочем кооперативе, в бухгалтерии, хотя они обе два плюс два не могли сложить. Тоже такие фишки социалистические. Потом Радован и Ранка снимали какую-то комнату в Шишке[92], где и решили семейство увеличить. В съемной комнатке в девять квадратных метров. Но у Ранки выкидыш случился: какие-то проблемы со здоровьем, — после этого ее оперировали в Клиническом центре, а потом еще раз так было, и тогда какой-то доктор Йосип с какого-то острова близ Задара[93] сказал Радовану, что Ранка не сможет иметь детей. Вот тут они чуть не развелись. Радован как напивался, сразу начинал трындеть о трех сыновьях, а Ранка мучилась, как Иисус на кресте: чувствовала себя виноватой. Она сбежала обратно в Високо, а Радован поехал за ней, опять взял продленный отпуск, и снова они сколько-то жили в Високо, пока Радовану не позвонили и не сказали, что если он в течение трех дней не вернется — прощай служба. Радован поехал, и Ранка за ним. Они переехали на Вич, куда-то к черту на кулички, в какой-то полуразрушенный дом. Ранка снова на работу устроилась, а потом вдруг ни с того ни с сего забеременела. У Радована чуть сердечный приступ не случился. Напился так, что его потом в больнице откачивали; Ранке уже сказали, что ничего хорошего из этого не выйдет, что, может, будут какие-то страшные последствия и все такое, так что у бедной Ранки опять чуть выкидыш не случился. А когда я родился, Ранка так боялась, что у Радована от счастья поедет крыша, что выписала из Боснии Драгишу только для того, чтоб тот за Радованом следил. У него сначала вроде как все получалось, но однажды они так налакались ракии, что оба загремели в каталажку. Ранке пришлось самой, со мной на руках, ехать из роддома домой на автобусе. Радован ей звонил из тюремного изолятора, и они ругались по телефону, спорили, как меня назвать: Радован хотел, чтоб я был Йован, а Ранка — чтоб Предраг. Договориться они так и не смогли, потому что полицаи больше не давали Радовану звонить: Драгиша позвонил и договорился с Ранкой, что я буду Марко, а Радовану навешал лапшу на уши про какого-то Марко Шарко из Добоя[94], который был крутым чуваком, воевал с турками и побил типа двенадцать тысяч, — так что Радован остался доволен. А когда домой вернулся, взял меня на руки, то сказал: «Вы ему вдвоем имя выбрали, а я сделаю из него всемирно известного футболиста».
Вот после этих слов Ранка, наверное, и решила: пусть Радован муштрует своего сына, а она в это дело вмешиваться не будет. До сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня, когда она позвонила на работу и сказала, что заболела, а когда я встал, меня ждал царский завтрак. Тут я сразу понял: что-то здесь не ладно. Ничего хорошего это не предвещало. Ранка никогда не оставалась дома, даже когда была вправду больна. Ее этот переходный период так напугал, что ей все время казалось, что она останется без работы, даже если выйдет в рабочее время сигаретку выкурить, или использует весь свой отпуск с отгулами до конца года, или вдруг больше одного дня на больничном задержится. И сейчас Ранка точно дома осталась не ради того, чтоб завтраком меня накормить, когда я проснусь.
— Ты был вчера на тренировке?
На тебе! Вот она где собака порылась.
— Не был.
— Ну и?
Что «ну и»? Не было меня на тренировке, и что я теперь должен объяснять. Я знаю, что она это спрашивает из-за Радована, который уже сто лет места себе не находит, и она тоже уже не может на него такого смотреть. Ранка решила сама во всем разобраться. Браво, Ранкица! Только вот этого нам еще не хватало.
— Шта е с тобом?
— Ништа.
А что тут может быть? Вымотан я. Этим сплошным глушняком вокруг меня и грохотом в башке. Только некому мне об этом рассказать. Я уже сто раз фразы в голове прокручиваю, только ни за что вслух не скажу. А уж тем более тебе, Ранка. Ничего не получится. С первых же слов меня накроет. Так накроет, что сразу разрыдаюсь. Но Ранка смотрит на меня и ждет. У нее терпения — целый вагон. Она Радована-то всю жизнь терпит.
— Я больше не тренируюсь.
Уф. Еле-еле. Теперь только голову повыше задрать, чтобы слез не увидела.
— С каких пор?
Э, мать вашу, ну щас… Ранка хочет поточнее. Все сразу, и в деталях. Э, Ранка моя, если б ты только знала. Я только плечами пожму. Этого и так много — больше, чем ты заслуживаешь.
— Когда думаешь начать тренироваться?
— Не думаю. Хватит с меня. Всего.
— Чего с тебя хватит?
Хватит с меня. Этого разговора, например. Не могу больше. И Ранка тоже. Она тоже поворачивает голову кверху, чтоб слез не показать. Э, Ранка, поздно теперь плакать. Мы можем тут все вместе рыдать, только это не поможет.
— A mama знает?
Вот тебе на! Я же знал, что ее беспокоит. Не она страдает, а Радован, а она мучается из-за него, ну и, может, еще немного из-за меня. Ну, сначала, конечно, из-за него. Она знает, что это его подкосит, если уже не подкосило. И я это знаю. И мне его даже жаль. Немого этого.
— А мне-то что.
Не признаюсь ни за что, хоть ты режь. Только не надо тут плакать, Ранка. Не надо, мать твою! Э, черт подери! У Ранки слезы в три ручья. Теперь и мне ее жалко. И мне тяжело, и у меня слезы потекли. Блин, в последний раз в детском саду плакал, а сейчас два слова — и в слезы. Прям плаксивый пидорюга какой-то.
— Надо было думать. Ничто насильно не делается. Спорт, спорт, один только спорт! И шта теперь, когда нет больше спорта?
— Будем знакомиться с природой и обществом.
— Кто? Я? Э, мой Марко.