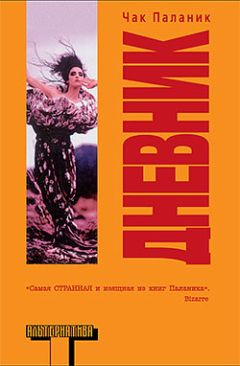Грейс рядом с ней на скамье, молится. Табби по левую руку от Грейс, обе преклоняют колени. Складывают ладони.
Голос Грейс – глаза ее закрыты, губы шепчут в щель между ладонями, – она говорит:
– Прошу тебя, пусть моя невестка вернется к живописи, которую так любит. Прошу тебя, не дай ей похоронить великолепный талант, которым ты ее одарил…
Вокруг них каждое островное семейство бормочет свои молитвы.
За спиной у них кто-то шепчет:
– …прошу тебя, Господи, дай жене Питера то, без чего она не может начать творить…
Еще один голос – старушенция Питерсен – молится:
– …пусть Мисти спасет нас, прежде чем пришельцы вконец обнаглеют…
Даже Табита, дочь твоя, шепчет:
– Боже, заставь мою маму собраться и взять в руки кисть…
Все восковые фигуры острова Уэйтенси стоят на коленях вокруг Мисти. Тапперы, Бёртоны и Нимены, все они закрыли глаза, сплели пальцы и просят Господа заставить ее рисовать. Все они думают, что у нее есть какой-то таинственный дар, способный их всех спасти.
А Мисти, твоя бедная жена, единственный нормальный человек среди собравшихся, она хочет лишь… ну, она хочет выпить.
Пара порций спиртного. Пара таблеток аспирина. Повторить.
Ей хочется крикнуть, чтоб все заткнулись и подавились своими чертовыми молитвами.
Если ты уже немолода и понимаешь, что никогда не станешь знаменитой, признанной художницей, какой мечтала быть, никогда не напишешь картину, которая тронет и вдохновит людей, действительно тронет, взволнует их и изменит их жизнь… Потому что у тебя просто нет таланта. У тебя нет фантазии и вдохновения. У тебя нет того, без чего не создать шедевра. Если ты сознаешь, что у тебя в этюднике – одни лишь напыщенные каменные дома и огромные, как подушка, мягкие цветники, неприкрашенные мечты девчонки из Текумсе-лейк, штат Джорджия, – если ты понимаешь, что любая твоя картина лишь добавит посредственного говна миру, и без того погребенному посредственным говном… Если ты сознаешь, что тебе уже пятый десяток и ты исчерпала свой Богом данный потенциал – что ж, твое здоровье.
Намахнули. Вздрогнули.
Большего счастья тебе не светит.
Если ты сознаешь, что тебе никак, ну никак не создать для своей дочурки лучших условий жизни – черт, да тебе не дать ей даже того, что дала тебе твоя трейлерно-парковая мамаша, – а это значит, никакого ей университета, никакого ей художественного колледжа, никаких сладких грез, ничего, кроме грязных столиков, как у тебя самой…
Что ж, пей до дна.
Таков каждый день в жизни Мисти Мэри Уилмот, королевы рабов.
Мора Кинкейд?
Констанс Бёртон?
Уэйтенсийская школа живописи. Они были другими, родились другими. Художницы, которым все так легко давалось. Соль в том, что у некоторых имеется талант, но у большинства его нет. Мы, большинство, – не видать нам до самой смерти ни славы, ни поблажек. Люди вроде бедной Мисти Мэри, они – узколобые, ограниченные, тупицы, не настолько увечные, впрочем, чтоб парковаться на стоянке для инвалидов. Или участвовать в Особых Олимпийских играх. Они лишь платят все налоги до единого, но не получают индивидуального меню в стейк-хаусе. Душевой кабины для больных гигантизмом. Специального сиденья в передней части автобуса. У них нет политического лобби.
Нет, удел твоей жены – аплодировать другим.
В художественном колледже одна Мистина знакомая взбивала в миксере мокрый бетон, пока мотор не выгорел тучей горького дыма. Так она высказалась о судьбе домохозяек. Сейчас эта девушка наверняка живет в пентхаусе, поедая органический йогурт. Она богата и сидит в позе лотоса.
Другая Мистина знакомая по колледжу играла трехактную пьесу с куклами в полости рта. Это были крохотные костюмы, надевавшиеся на язык. Она держала сменные костюмы за щекой, как за кулисой. В антрактах она просто-напросто смыкала губы – опускала занавес. Зубы ее были огнями рампы и дугой просцениума. Она надевала на язык костюм за костюмом. По окончании трехактной пьесы у нее вокруг рта красовались «растяжки». Так безобразно растягивалась ее круговая мышца рта.
Однажды вечером, исполняя в выставочной галерее лилипутскую версию «Величайшей из рассказанных историй»,[25] эта девушка едва не подавилась насмерть, когда крохотный верблюд попал ей в горло. Нынче она наверняка катается в грантах, что твой сыр в масле.
Питер с его похвалами всем прелестным Мистиным домикам, он был так не прав. Питер, сказавший, что она должна укрыться от всех на острове и писать только то, что любит, – это был совет мудацкий.
Твой совет, твои похвалы были всегда мудацкими.
По твоим словам, Мора Кинкейд двадцать лет мыла рыбу на консервном заводе. Она учила своих детишек какать в горшок, полола свой садик, а однажды вдруг села и написала шедевр. Вот сука. Без диплома, без занятий в мастерской прославилась навеки. Ее любят миллионы людей, которых она никогда не встретит.
Для протокола: погода сегодня горька, со случайными вспышками ревнивого гнева.
Просто чтобы ты знал, Питер: твоя мать по-прежнему сука. Она работает неполный день на контору, которая подбирает для людей фарфоровые сервизы, стоит их посуде слегка побиться. Она случайно услышала, как одна богатая летняя женщина – загорелый скелетик в трикотажном шелковом пастельном платьице – сказала, сидя за ленчем:
– Какой смысл быть богатым на этом острове, если здесь нечего купить?
Услышав это, Грейс принялась допекать твою жену: рисуй. Дай людям то, из-за чего они будут драться, вопя: «Мое!» Будто Мисти может вынуть шедевр из задницы и вернуть Уилмотам их состояние.
Будто так она может спасти весь остров.
На носу день рождения Табби, Большие Тринадцать, а денег на подарок нет. Мисти будет копить чаевые, покуда не хватит, чтоб уехать и жить с ней в Текумсе-лейк. Они не могут жить вечно в гостинице «Уэйтенси». Богачи и богачки жрут остров живьем, а Мисти не хочет, чтоб Табби выросла бедной, под пятой богатеньких мальчиков-наркоманов.
Мисти прикидывает: к концу лета они смогут свалить. Она не знает, что делать с Грейс. У твоей матери должны быть друзья, они ее приютят. Есть церковь, которая всегда ей поможет. «Дамское общество алтаря».
Здесь, в церкви, их окружают витражные святые – все они проткнуты стрелами, зарезаны ножами и горят на кострах – и Мисти невольно вспоминает тебя. Твою теорию страдания как средства обретения божественного вдохновения. Твои истории про Мору Кинкейд.
Если в страдании и нищете – вдохновение, Мисти сейчас переживает расцвет.
Прямо тут, где все жители острова встали вокруг нее на колени, молясь, чтоб она начала рисовать. Стала их спасителем.
Вокруг – святые, что улыбаются и творят чудеса в миг мучений, и Мисти протягивает руку за псалтырем. За любым из дюжины пыльных старых псалтырей – одни без обложек, с других свисают трепаные ленты сатина. Она берет один наугад, открывает. И… ничего.
Она листает страницы, но ничего не находит. Лишь молитвы и гимны. Никаких особых тайных иероглифов не накорябано внутри.
И все ж когда она идет, чтоб положить псалтырь на место, на дереве скамьи, где тот лежал, ножом вырезаны слова:
– Уезжай с этого острова, пока не поздно.
И подпись: Констанс Бёртон.
На их пятом настоящем свидании Питер сделал паспарту и раму для картины, нарисованной Мисти.
Ты, Питер, говорил ей:
– Вот эта вещь. Эта картина. Она будет висеть в музее.
Картина была пейзажем – дом, окруженный террасами, затененный деревьями. Кружевные шторы на окнах. Розы, цветущие за белым частоколом. Синие птицы, пролетающие сквозь пласты солнечного света. Дымная лента длинным завитком из одинокой каменной трубы. Мисти и Питер были в багетной мастерской рядом с колледжем, и Мисти стояла спиной к витрине, чтобы никто, заглянув, не увидел, чем они занимаются.
Мисти и ты.
Чтобы никто не увидел ее картину.
Ее подпись – внизу, прямо под частоколом: Мисти Мэри Кляйнман. Не хватает лишь смайлика. Сердечка над буквой «й» в слове Кляйнман.
– Ну, может, в музее китча, – сказала она.
Картина была всего лишь улучшенной версией того, что она рисовала с самого детства. Деревенька ее фантазий. И видеть это ей было более тошно, чем саму себя, голую, толстую, на тошнотворнейшем автопортрете. Банальное сердечко Мисти Мэри Кляйнман красовалось на картине. Слащавые мечтания нищей, одинокой шестилетки, которой она останется до скончания дней. Вся ее жалкая, миленькая стразовая душонка.
Банальный маленький секрет ее счастья.
Мисти непрестанно оглядывалась, чтоб убедиться: в витрину никто не смотрит. Никто не видит самую трафаретную, подлинную сторону Мисти, изображенную здесь акварелью.
А Питер – дай ему Бог здоровья – спокойно вырезал паспарту и поместил на него картину.
Ты вырезал паспарту.
Питер поставил стусло на верстак мастерской и выпилил рейки для рамы. Питер бросил взгляд на картину, половина его лица улыбнулась, большая скуловая мышца загнула кверху левый угол рта. Питер всегда поднимал только левую бровь. Он сказал: