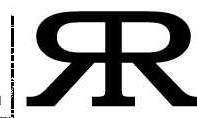И он, короче, этим меня возмутил, сука, блядь! Какого хуя! Гнида, хотел на чужих санях в Рай въехать! Хуй на рыло! Правильно на него в суд подали! Мало попало! Я вообще бы таких расстреливал или отрубал бы им руки! Рафаэль трудился всю жизнь в поте лица, как, например, и Босх тот же, и Брейгель, да и даже Саврасов ебучий — и то на хуй никому не нужны! А эта, блядь, самодовольная овчарка кавказская хочет всё на шару и сразу! И, блядь, ещё в газеты они факсы шлют! Видите ли, считают свою проблему достойной внимания прессы! Да подержи-ка мне хуй, мальчуган!
Так я всё и написал. Аркадий Ханцевич почитал-почитал, повертел-повертел в руках распечатку и спросил: «Максим, вы действительно считаете, что он бездарь?» «В этом нет никаких сомнений!» — ответствовал я. «Зачем же мы тогда будем о нём писать?» — риторнул Ханцевич. «Не знаю» — сказал я. «И я не знаю» — сказал Ханцевич.
Я снова вспомнил Тер-Оганьяна, вспомнил, как он с видом оскорблённой, блядь, добродетели клацал своим наглым еблом, и улыбался. «Вот и получи себе хуй на рыло, ничтожество!»
Со временем же я и вовсе втянулся в работу, и текстов моих больше не заворачивали. Я понимаю, конечно, что фраза «я поставил на себе крест» уже заебала среднестатистического читателя как минимум до «нельзя», но я действительно поставил его на себе, и постепенно начал обретать, блядь, новое Я.
Грустно мне было? Да, факт. Скучно? Само собой. Было ли кому руку подать? Да, блядь, и не ночевало. Стало ли получаться относительно новое дело? Да, безусловно.
Что, спрашивается, грело меня? Да тут вообще весьма просто всё. Во-первых, грело меня самое элементарное рутинное и линейное течение времени. На работу я приходил в 10.30, а уже в полдень, пиздуя куда-нибудь по заданию редакции, я радовался, что прошло уже полтора часа от моего рабочего дня — стало быть, скоро уже 18.30, и я пойду домой. А дома меня ждёт хавка и семичасовой выпуск НТВэшных новостей, каковые именно тогда я, сначала по долгу службы, прибился смотреть. Да врать не буду, дорога домой в то время дарила мне неописуемую радость. Я, будучи реально заёбанным, ибо осознанно заниматься не своим делом — работа не из простых, еле шёл и чуть не считал всякий метр, но с каждым шагом пёрся от мысли, что расстояние до дома всё сокращается и сокращается.
Именно в таком относительно счастливом расположении духа с изобилием поправок на всё я как-то раз встретил А в переходе подземных, блядь, станций (между «Лубянкой» и «Кузнецким мостом»). Она тоже пёрлась вся какая-то вялая, видимо, по своему обыкновению представляя, что она мячик, чтобы не так раздражала толпа, но, завидев друг друга, мы всё-таки искренне улыбнулись и поздоровались кивками голов. Это была ровно вторая наша встреча вне контекста Кати Живовой, но, как выяснилось позже, далеко не последняя. Точнее сказать, вне той фишки, что оба мы — друзья Кати, и общаемся лишь постольку, поскольку Катя — связующее звено. Теперь всё иначе. Теперь с Катей я всё чаще общаюсь в контексте А, и это более чем логично, и более чем следовало ожидать, и более чем неудивительно, и в той же степени удивительно, потому что дважды два — это всё-таки четыре, как это на самом деле ни странно.
А во-вторых, меня грело то, что Вова, буквально месяц назад «зашившийся» в «Детоксе» от героина за пять родительских косарей грина, тоже пошёл на работу, тоже поставил на себе крест. Тоже теперь работал в какой-то издательской, блядь, конторе и совсем рядом со мной. Тоже не то на Мясницкой, не то где-то в Кривоколенном переулке. И я радовался, что хуёво не только мне. Радовался тому, что и Вова при случае тоже ой как не отказался бы вмазаться герычем.
…Но никто из нас той весной не считал нужным друг другу звонить.
Привет! Я хочу сказать несколько слов о внутренней цензуре. Надеюсь, что действительно несколько. Слава богу, у меня и времени-то на это немного.
Через 14 минут, если конечно, не врут мои новые часы, а они вряд ли врут, ибо они электронные, блядь, я должен быть на стрелке, которую никак нельзя продинамить. Но, я буду там только через 30. Но я точно там буду. И то, что я там буду — это точно самый лучший вариант решения проблемы. А остальное — хуйня.
Теперь непосредственно о цензуре. На то она и цензура, короче глаголя, что я называю хуйнёй вещи, от которых я отказываюсь ради того, что я считаю нехуйнёй. Хуйня, в данном случае, это не то, чтобы не хуйня, но это не есть веление сердца. Но… что-то в этом такое всё-таки есть. Может это действительно веление сердца? Может быть. Потому что может быть всё — вопрос как. Но если это так, то это уж точно хуйня. Вот и всё. Я — настоящая собака. Я должна жрать мясо. Это единственная нехуйня, потому что я не должен жрать что попало. Я должен жрать мясо. Если, конечно, я настоящая собака, а не какая-нибудь там хуйня. И если вместо мяса я буду жрать какую-нибудь хуйню, то я сдохну, а мне никак нельзя сдохнуть, потому что тогда я окажусь несостоятельным в том деле, которое я считаю нехуйнёй. Ведь если я начну считать это дело хуйнёй, то тогда уж я точно окажусь несостоятельным, ибо перед лицом нового мы всегда несостоятельны и, вследствие этого, многие из нас, настоящих собак, погибают, поскольку оказываются ненастоящими.
Вот и вся хуйня! Вот и вся внутренняя цензура! Время вышло… И, как всегда, не вовремя.
…Глупый маленький мышонок
отвечает ей спросонок:
«Нет, твой голос нехорош!
Чего-то слишком уж хорошо ты поёшь!
Чего-то уж очень подозрительно это…»
Помнить! Помнить, кто я на самом деле! Помнить, кто я! ((5-a) Я — Бог! Я хочу созидать миры!!!) Не забывать! Никогда! Ни за что! Несмотря ни на что! Не ныть! Не киснуть, как говорила Света! Помнить! Кричать душой! Зубы стискивать так, чтоб крошились, сволочи! Но помнить! Кричать душой! Ненавидеть! Любить! Идти навстречу! На поводу не идти! Но помнить! Помнить кто я!
Я ненавижу весь мир, потому что его не за что любить! У меня не бывает депрессий! Я действительно всех умнее, всех сильнее, всех добрее и милее!
Это не крик души. Я ненавижу весь мир спокойно, со знанием дела. По одной простой причине: он патологически и неисправимо примитивен и скучен! Бля буду, он создан каким-то не шибко талантливым божеством! Боги, они ведь как люди — выше головы прыгнуть никому не дано! Если ты талантливый бог, то и миры у тебя талантливые! А если ты посредственность, так и не обессудь! Сиди себе, не выёбывайся!
Я до тебя, сука, ещё доберусь! Заранее бойся меня, говно! Вот сдохну, отлечу в эмпиреи, проберусь в твои покои небесноцарские и прирежу тебя, гниду! Сначала кастрирую, а потом прирежу козла-мудака!
Думаешь, не доберусь? Думаешь не доберман? Врёшь, доберусь! Найду уж лазейку, ибо я умнее тебя! Бойся меня, Господи! Знай, сегодня ты достал меня! Начинаем, блядь, «обратный отсчёт»! Я убью тебя, сука, потому что бог — это я! Мой мир создан! Ты — часть его, часть меня. И никак иначе! Ты живёшь по моим законам, ублюдок! Почему? Потому что мои законы правильней и мудрее! Потому что я сильнее тебя!
А то, блядь, раскудахтался во мне старый благообразный хрыч! Жёны там, дети, деревья, дома, доминантный принцип, чувство ответственности — и всё, блядь, в одном флаконе! По отдельности-то хуй впаришь, я понимаю! Ты бы, говно, ещё распродажу устроил! Соси пипису, рваный гондон! Дни твои сочтены! Это говорю тебя я, царь богов Маугли, бля! Достал ты меня, дерьмо собачье! Так умри же!
(На протяжении данной главы под словом «бог» имелось в виду бездарное человечество (Всегда, блядь, в продаже горячее человечество!), синтезировавшее подобную хуету! Человечество — бездарь! Человечество думает, оно — бог! Но бог — это я! Я не человечество вам! Я один такой! И пусть А пугается тихо, читая данные строки! У меня одна жизнь! Впрочем, она действительно вечная. Разберёмся.)
В возрасте шести-семи лет меня уже интересовало то, что впоследствии стало стержнем моего грешного сознания. Но поскольку тогда, собственно, «стержень» сформироваться ещё не успел, то поиски оного в описываемый период уже сами по себе являлись стержнем бытия для всех без исключения тогдашних детских мыслей моих.
Получить же эту самую степень Стержня, каковая, кстати сказать, не принесла для счастливицы ожидаемого благополучия, то есть разочаровала, конечно же, как это у нас повелось, какая-то полная хуйня-мысль. Но… баллотировались действительно все.
Среди этих мыслей-старателей, с таким неподдельным упорством боровшихся за обладание маленьким мной (прям, будто я какой Клондайк, честно-слово, или ещё того хуже Эльдорадо ебучее), была следующая.
Как-то раз, стоя с мамой на дорожной «зебре» в ожидании зелёного огня светофора, я задался одним вопросом: кто определяет оптимальное время горения того или иного света. Короче, где критерий? Чему или кому удалось получить-таки степень критерия?