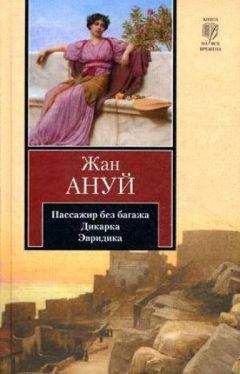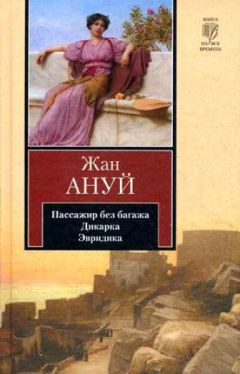— Это становится серьезным, — замечает Гермико, откупоривая принесенную мною бутылку вина.
— И часто здесь такое?
Я подхожу к окну, оглядываю темную долину. Вечер перетекает в ночь, птицы улетели, кошки исчезли, хотя время от времени из глубины леса доносится приглушенный визг боли. На плоском каменном уступе белеют две дочиста обглоданные косточки в форме буквы Т.
— В последнее время стало хуже. — Она качает головой. — Утром позвоню, пожалуюсь.
— А кому полагается звонить, чтобы пожаловаться на такие вот вещи?
Смотрит на меня, как на идиотку.
— Властям, конечно, кому ж еще.
Телеграмма от матери — сама лаконичность, но ведь, в конце-то концов, платит она по числу слов, верно? «Отец умер 7.30 утра. Несчастный случай на охоте. Твое присутствие на похоронах необязательно, он выбрал кремацию».
Как говорится, одним меньше, одним больше. Может, мне светит прибавка к ежемесячному содержанию? Не то чтобы это влияло, теперь, когда у меня «чистосердечных» деньжищ — что грязи.
К совместному завтраку в «Чистых сердцах» привыкнуть непросто, однако преподавательскому составу настоятельно рекомендуется завтракать вместе с девочками в столовой жилого корпуса «Вот и я». По утрам, когда у меня есть занятия, я притаскиваюсь в семь или около того — раздача прекращается ровно в семь тридцать (и попробуйте только выпросить жареный пирожок с начинкой из тофу[70] или чашку попкорнового чая в 7.32!). К тому моменту, как я усаживаюсь за длинный стол, застеленный розовой камчатной скатертью, девочки уже часа два как «в наряде», чисткой-уборкой занимались. Дамы средних лет в розовых передниках и косынках в тон выносят подносы с восьмиугольными бенто[71], битком набитыми всякими вкусностями: тут и разноцветные ломтики сашими[72], тут и соленые сливы или вишни, маринованные огурчики, что трещат на зубах, точно пистоны, крохотные порции «утреннего салата», сдобренного чудными скользкими грибочками и неидентифицируемыми частями рыбы, и чаша с рисом, и, может, еще чаша с мисо, и болтанка из гречишных макарон — особое угощение по средам. Еще пара недель здесь — и вот я уже спускаюсь в столовую даже по субботам и воскресеньям, когда завтрак подают до вопиюще-позднего часа — до восьми тридцати, потому что по выходным бывает мое любимое блюдо восточного мира: рисовая каша-размазня. Я знаю: звучит прямо как из Диккенса — «Пожалуйста, сэр, добавки не надо», — но эта просто великолепная, густая, вязкая и при этом еще и зернистая. Залитая рисовым сиропом, съедается «на ура». На самом деле этой каши мне вполне хватает на целый день. Обнаруживаю, что если отказаться от двух трапез из привычных трех — тем более на такой высоте, — обостряется ум и даже зрение. Вечерние краски порою так ярки, что аж пульсируют.
На выходных девочкам тоже позволяют выспаться — по субботам никакой уборки, вот только по воскресеньям — поверхностное ритуальное очищение всех открытых для широкой публики коридоров и фойе. И до шести вечера в субботу, когда на вечерние спектакли прибывают первые зрители, девочкам позволяется разгуливать по территории в «штатском», хотя это подразумевает туалет не менее продуманный и прихотливый, нежели их повседневная практика: все облачаются в целомудренные платья, до блеска начищенные туфли-лодочки и благоухающие химией колготки. Все, за исключением Кеико — та предпочитает комбинезон цвета хаки, на талии стянутый патронташем из свиной кожи. В смысле одежды ей делаются некоторые послабления — ведь из нее готовят звезду номер один труппы «Огонь». Через пару лет, когда она, Мичико, Фумико и вся остальная орава предстанут перед публикой в полномасштабных постановках, Кеико предстоит играть главные мужские роли. Иными словами, романтического героя. Голос ее доведен до нужного тембра, бедра сведены на нет диетой, грудь плоская, туго-натуго перетянута, плечи кажутся шире ухищрениями костюмерши, походка раскованная — здесь инструктор по Маскулинному Поведению постарался, изысканный педик из Нагасаки по имени Тосиро, его единственный талант — безупречная имитация целого ряда закрепленных стилей «мачо», как западных, так и восточных. Кеико уже осыпают льготами и привилегиями, о которых остальной группе остается только мечтать. От нее ждут экспансивности, даже шумливости. Прочие учителя ее балуют, нянчатся с нею, просто-таки ею не надышатся. Подавальщицы в столовой то и дело доливают ей доверху мисо или тайком притаскивают ей еще вкусностей из бобового творога. В субботу утром, когда Кеико входит в столовую в своем спортивном комбинезоне, даже девушки постарше замирают и любуются ее походкой, с иллюзией тестикулярной размашистости. Пока она ест, рядом с ее подносом, словно по волшебству, появляются зверюшки-оригами. Кеико аккуратно разворачивает их один за другим и с непроницаемым лицом читает прихотливо сложенные любовные записочки.
По пути из столовой достаю из кармана телеграмму матери, разворачиваю и перечитываю, просто чтобы убедиться, что отец и в самом деле скончался. Внезапный спазм сгибает меня пополам — не знаю, виной ли тому телеграмма или добавочная порция каши.
Я имею право воспользоваться любой из дамских комнат здания «Вот и я» — они отмечены развернутым розовым веером на двери, — но что-то гонит меня вверх по холму до моего бунгало, хотя в какие-то моменты, в панике, взмокшая, я не уверена, что добегу. Влетаю на веранду, сбрасываю туфли, несусь через татами к туалету, у двери всовываю ноги в туалетные тапочки, рывком сдергиваю вниз джинсы и торопливо плюхаюсь на фарфоровую лохань. Отхожу от отделанной кафелем платформы.
Ну-ну. В жизни ничего подобного не видела. Я знала, что его смерть принесет освобождение, но все же. Доктор Хо был прав: номер два для артистической натуры — и в самом деле номер два. Незаметно выскальзываю за калитку, проделанную в ограде позади моего бунгало, и бегу вверх по тропе к Гермико. Та устроилась на парадном крыльце, загорает.
— Ты непременно, непременно должна на это взглянуть. — Хватаю Гермико за руку и тащу ее вниз по тропе. Дверь в туалет приоткрыта, как я ее и оставила, густой глинистый запах растекается по всему дому. Я распахиваю дверь во всю ширь. Гермико осторожно заглядывает внутрь.
— Луиза! — восклицает она и глядит на меня, брови взлетают до самой линии волос. — Фотоаппарат есть?
— Только мой старый «Полароид».
— Неси сюда. — Она едва не кричит. Ну, для японки.
Фотик в футоновом шкафу, на верхней полке, за коробками и стопками книг. Я вручаю ей «Полароид», Гермико надевает мои туалетные тапочки и входит в комнатушку. Дверной проем озаряет вспышка. Она выходит, и мы наблюдаем, как из глубин глянцевого белого прямоугольника выплывает безупречное медное «Л», точно бархатистый угорь.
Она ставит фотографию на полочку у моей кровати и бормочет про себя: «Это нечто… просто нечто», — словно в трансе. Наконец поворачивается ко мне и говорит:
— Ты знаешь, что это значит? Я качаю головой.
— Теперь ты в полной мере стала самой собой. — Гермико усмехается. — Какой благоприятный день. Пойдем прошвырнемся по магазинам.
Мне никогда и в голову не приходило пешком дойти с горы Курама до Киото — это же невесть сколько миль! — но Гермико знает тайный путь, короткий и прямой. Сперва мы следуем по течению узкого ручейка, сбегающего вниз по склону; обе в таком восторге от моего фекального триумфа, что едва не парим в воздухе. Прямые сосны отгораживают солнечный свет; мы скользим над землей, точно скаковые лошади. Наконец ручей вливается в мелкую речушку. Мы неспешно идем вдоль пологого берега, однако ощущение такое, словно на самом деле не мы двигаемся, а мир смещается как диорама — прозрачные струи реки, глянцевые, точно краска под кистью художника, мужчины без пиджаков, выгуливающие миниатюрных любопытных собачек, футболисты, затеявшие кучу малу в красных облаках пыли, сгорбленная старуха, собирающая бутылки в вытоптанном бурьяне. Речушка впадает в другую реку, более широкую и полноводную, и внезапно мы оказываемся в самом центре Киото.
Покупатели запрудили крытые тротуары Каварама-ти-дори. Гермико берет меня за руку, и мы прокладываем путь сквозь толпу. Ток воздуха капсулой изолировал нас от мира, мы двигаемся в три раза быстрее престарелых дам с сумочками и авоськами, в три раза быстрее орд девочек-подростков в гофрированных юбочках и матросках. Ничто не властно к нам прикоснуться.
Ныряем в длинный магазин с высокими потолками. Пол — голый бетон, глазурованный смолой цвета меда, демонстрационные вешалки — ржавые железные перекладины, зеркала — длинные листы отполированной жести с пугающе острыми неровными краями. Продавщицам требуется целая вечность на то, чтобы доковылять до нас из глубины магазина — в этаких-то сандалиях с черными деревянными подошвами толщиной в фут. Впрочем, они и босиком проворнее не стали бы, так туго затянуты они в свои платья из ткани ламе медного цвета. На фоне подсветки — подсветкой работают хромированные автомобильные фары и сварочные горелки, что пылают в высоких нишах — неуклюже ступающие продавщицы напоминают вызолоченные этюды Джакометти[73].