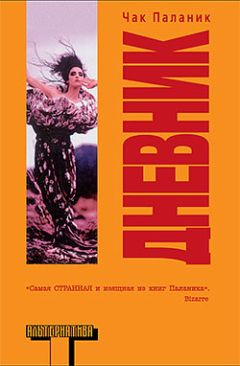Стало быть, Мисти остается кайфовать на Уэйтенси-Пойнт с двумя бутылками красного вина и корзиной сандвичей с куриным салатом. Ее краски, акварель и масло, ее кисточки и бумага – она не прикасалась к ним с тех пор, как родила. Акрил и масло, поди, давно уже затвердели. Акварели засохли и раскрошились. Кисточки окоченели. Никчемная рухлядь.
Включая Мисти.
Грейс Уилмот протягивает руку и говорит:
– Табби, пошли. Позволим твоей маме наслаждаться природой.
Табби берет бабушку за руку, и они направляются через луг обратно, к грязной дороге, где запарковали машину.
Солнце светит тепло. Луг лежит на холме, так что смотришь отсюда и видишь, как волны шипят и разбиваются, налетая на скалы. Видишь город, что тянется вдоль берега. Гостиницу «Уэйтенси» – смазанное пятнышко белой вагонки. Почти различаешь крохотные слуховые окошки чердачных комнат. Отсюда остров кажется самим совершенством, не заполоненным суетливыми туристами. Не обезображенным рекламными щитами. Он выглядит так, как выглядел, должно быть, до того, как сюда хлынула летняя публика. До приезда Мисти. Становится ясно, почему те, что здесь родились, никогда не уезжают. Почему Питер так хотел защитить остров.
– Мам! – зовет Табби.
Она бежит назад, оставив бабушку. Обеими руками теребит свой розовый спортивный свитер. Запыхавшись и улыбаясь, подбегает к Мисти, сгорбленной на пледе. Держа в руках золотую филигрань сережки, Табби говорит:
– Застынь.
И Мисти застывает. Статуя.
А Табби наклоняется, чтоб вдеть сережку в мочку маминого уха, говоря:
– Я уж и забыла, но бабуся мне напомнила. Сказала, что тебе потребуется эта штука.
Коленки ее синих джинсов все в грязи и чем-то зеленом – запачкались, когда Мисти запаниковала и повалила дочку на землю, когда Мисти пыталась ее спасти.
Мисти говорит:
– Душка, хочешь взять с собой сандвич?
Табби качает головой и говорит:
– Бабуся мне велела их не есть.
Потом поворачивается и бежит прочь, размахивая рукой над головой, бежит прочь и исчезает из виду.
Энджел держит лист акварельной бумаги за уголки – осторожно, кончиками пальцев. Он смотрит на него, смотрит на Мисти и говорит:
– Вы нарисовали кресло?
Мисти пожимает плечами и говорит:
– Я столько лет не рисовала. Это было первое, что пришло мне в голову.
Энджел поворачивается к ней спиной, подставляет рисунок под разными углами к свету солнца. Не отрывая взгляда от листа, он говорит:
– Что ж, хорошо. Очень хорошо. А где вы нашли кресло?
– Я его выдумала, – говорит Мисти и рассказывает ему, как торчала весь день на Уэйтенси-Пойнт в компании красок и двух бутылок вина.
Энджел всматривается в рисунок, подносит так близко к носу, что почти косеет, и говорит:
– Похоже на Гершеля Бёрка.
Энджел смотрит на нее и говорит:
– Вы просидели весь день на травке на лугу, воображая неоренессансное кресло Гершеля Бёрка?
Этим утром позвонила женщина из Лонг-Бич – мол, я перекрашиваю свою прачечную комнату, так что лучше приезжайте, гляньте на Питеров свинарник, покуда я не начала.
Сейчас Энджел и Мисти стоят в прачечной комнате. Мисти срисовывает Питеровы каракули. Энджел, по идее, должен фотографировать стены. Когда Мисти открыла свой портфель, чтоб достать блокнот для набросков, Энджел увидел рисунок акварелью и изъявил желание глянуть на него. Солнце пробивается сквозь матовое стекло окна, и Энджел смотрит на рисунок в этом тусклом свете.
Слова, наспреенные поперек окна, гласят:
– …ступите на наш остров, и вы умрете…
Энджел говорит:
– Клянусь, это Гершель Бёрк. Из филадельфийской коллекции 1879 года. Это кресло сейчас в загородном имении Вандербильтов, в Билтморе.
Должно быть, оно застряло у Мисти в памяти после «Истории искусства» (рис. 101), или «Обзорного курса декоративно-прикладного искусства» (рис. 236), или какого-то другого бесполезного курса в художественном колледже. А может, она видела его по телевизору, в видеотуре по знаменитым домам на каком-нибудь общественном телеканале. Кто знает, откуда берутся идеи. Наше вдохновение. Почему мы придумываем то, что придумываем.
Мисти говорит:
– Мне повезло, что я вообще хоть что-то нарисовала. Мне было так плохо. Пищевое отравление.
Энджел смотрит на рисунок, крутит его так и эдак. Корругатор между его бровями сокращается тремя глубокими складками. Надпереносные борозды. Треугольная мышца растягивает его губы, так что «морщины скорби» сбегают вниз с обоих углов рта.
Срисовывая настенные каракули, Мисти решает не рассказывать Энджелу про спазмы в желудке. Весь тот отстойный денек она пыталась нарисовать ближайшую скалу или дерево и в отвращении комкала бумагу. Она попробовала сделать эскиз далекого города, шпиля церкви и часов на здании библиотеки, но скомкала, едва начав. Она скомкала дерьмовый портрет Питера, который нарисовала по памяти. Скомкала портрет Табби. Потом единорога. Выпила стакан вина и стала озираться – что бы еще уничтожить своей бесталанностью? Потом съела еще один сандвич с куриным салатом – странный привкус чилантро.
От одной лишь мысли о том, чтоб войти в темный лес и нарисовать упавшую, развалившуюся статую, волоски у Мисти на загривке встали дыбом. Рухнувшие солнечные часы. Запертый грот. Господи. Здесь, на лугу, светило теплое солнышко. В траве гудели жуки. Где-то там, за лесом, шипели, разбивались океанские волны.
Вглядываясь в сумрачные лесные окраины, Мисти воображала, как высоченный бронзовый человек раздвигает кусты своими тронутыми патиной ручищами и смотрит на нее слепыми зрачками. Мисти видела, как он выходит из деревьев и направляется к ней, оставив за спиной убитую и расчлененную Диану.
Согласно правилам Пьяной Игры Мисти Уилмот, когда тебе в голову приходит мысль, что голая бронзовая статуя сейчас обнимет тебя металлическими руками и раздавит твою голову, поцеловав взасос, покуда ты срываешь ногти и молотишь кулаками до крови по ее замшелой груди, – что ж, тебе пора выпить еще стакан вина.
Когда ты вдруг оказываешься полуголой и срешь в маленькую ямку, вырытую за кустом, после чего подтираешься шелковой гостиничной салфеткой, – выпей еще один стакан.
Желудок пронзали спазмы, Мисти обливалась потом. С каждым ударом сердца боль вгоняла ей в голову гвоздь. Ее кишки забурчали, и она не успела вовремя стянуть трусики. Жижа плеснула ей на туфли и ноги. От вони ее затошнило, и Мисти упала вперед, упершись раскрытыми ладонями в теплую травку, в махонькие цветочки. Черные мухи отыскали ее за много миль по запаху и принялись ползать вверх-вниз по ее ногам. Подбородок отвис на грудь, и две пригоршни розовой рвоты выблевались на землю.
Когда через полчаса ты приходишь в себя в туче мух и дерьмо все стекает у тебя по ногам, – выпей еще стакан.
Ни о чем подобном Мисти Энджелу не рассказывает.
Продолжает делать наброски – здесь, в пропавшей без вести прачечной комнате, – а Энджел щелкает камерой и говорит:
– Что вы можете сказать про отца Питера?
Питеров папа, Хэрроу. Мисти нравился Питеров папа. Мисти говорит:
– Он умер. А что?
Энджел делает снимок и вжикает пленкой, переходя к следующему кадру. Кивает на каракули на стене и говорит:
– То, как человек пишет букву «й», значит очень много. Первый штрих означает привязанность к матери. Второй штрих, завершающий – привязанность к отцу.
Питеров папа, Хэрроу Уилмот, – все звали его Гарри. Мисти встретилась с ним лишь один раз, когда приезжала погостить перед свадьбой. Перед тем, как залетела. Гарри взял ее с собой в длинное турне по острову Уэйтенси – ходил и показывал на облезшую краску и просевшие крыши больших крытых гонтом домов. Взяв ключ от машины, выковыривал куски извести из щелей меж гранитными глыбами церкви. Они увидели, как потрескались и взбугрились тротуары Торговой улицы. Фасады лавчонок, исполосованные растущей плесенью. Внутри закрытой гостиницы было черно, ее почти полностью выпотрошил пожар. Снаружи она казалась унылой, решетки на окнах – в багровой ржавчине. Ставни покосились. Водостоки разваливались. Хэрроу Уилмот все приговаривал:
– Из грязи в князи и обратно за три поколения.
Он говорил:
– Как бы хитро мы ни вкладывали деньги, за три поколения они улетучиваются.
Питеров папа умер, когда Мисти вернулась в колледж.
И Энджел говорит:
– Вы могли бы раздобыть для меня образец его почерка?
Мисти срисовывает очередную закорючку и говорит:
– Не знаю.
Просто для протокола: если ты торчишь на пустыре, измазана дерьмом и обрызгана розовой рвотой, это еще не значит, что ты обязательно станешь настоящей художницей.
То же самое с галлюцинациями. Там, на Уэйтенси-Пойнт, со спазмами в желудке и потом, стекающим по щекам, Мисти стала видеть всякую всячину. Она принялась обтираться гостиничными салфетками. Вином полоскала рот. Махая руками, прогнала тучу мух. В носу жгло от рвоты. Глупо, ужасно глупо было бы рассказывать про это Энджелу, но тени на краю леса задвигались.