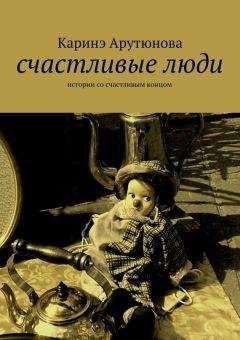А посылки голодающим детям! Сколько неистощимой фантазии, например, – немало вечеров было потрачено на сшитую из тряпочек то ли овцу, то ли собаку (с непропорциональным туловищем, длинными ногами и крохотной головой), – с какой гордостью несла я картонную коробку с этим недоразумением, воображая неподдельную радость незнакомого африканского ребенка.
.К этому гипотетическому ребенку я испытывала необыкновенную нежность, подкрепленную влюбленностью к героям фильмов «Максимка» и «Цирк».
Когда-нибудь, – мечтала я, – когда-нибудь у меня будет свой Максимка, – и, возможно даже, не один, – вот тут уже явственно проступали кадры из мультика «Лев Бонифаций», лучшего мультфильма всех времен и народов…
Собственно, некоторые основания для этого уже имелись. Например, мое достаточно близкое знакомство с папиным аспирантом по имени Жан Поль Мария.
Одетый подчеркнуто изысканно, сверкая белками глаз, поднимался он на наш второй этаж, оставив за спиной обездвиженных и онемевших соседей.
– Покушайте моего холодца, тетя Роза! – соседка Мария на вытянутых руках торжественно вносит громадную тарелку, накрытую салфеткой. Бабушка всплескивает руками, семенит, склоняет голову набок, отказывается, благодарит – в общем, театр!
Дверь за Марией захлопывается – бабушка, еще секунду назад чуть ли не рыдавшая на соседкиной груди, резко разворачивается и тычет кому-то невидимому конфигурацию из трех сложенных пальцев – попросту говоря, дулю.
Бабушка разражается длиннющей тирадой по поводу свиного холодца, – ну, как же, станет она его есть, придется звать кривую Любу из первого подъезда, она, бедняжка, живет впроголодь, и некошерное творчество нашей соседки оценит по достоинству.
Тарелка с холодцом тем временем стоит на кухонном столе, распространяя волнующий аромат. Бабушка двумя пальцами сдвигает салфетку и с подозрением всматривается в желеобразную поверхность с застывшими оазисами жира и яичными желтками, весьма аппетитными с виду.
– Как же, как же, стану я его есть, – ОНИ не дождут! – в голосе бабушки проскальзывают неуверенные нотки (кто такие эти загадочные «ОНИ», остается только догадываться). Она берет ложечку, зачерпывает ну совсем с краешку, – чуть-чуть…
– Ничего, – медленно пережевывает с величайшей осторожностью кусочек злополучного холодца.
– Таки неплохо (в слове «неплохо» ударение на первом слоге).
Несколько дней Мариин холодец занимает место в холодильнике, – приходит кривая Люба, крошечная старушка с плачущим лицом. Бабушка с Любой долго колдуют над блюдом, Люба машет руками, и лицо ее еще больше съеживается, – глаза слезятся, угол рта сползает ниже некуда.
– Побойтесь бога, Розочка, я что, голодная? – Люба, прижимая к груди тарелку, все никак не уходит, и до меня доносятся вздохи, бормотания, жалобы. Сумашедшая семья, больной ребенок, придурошный зять. – Роза, – он по пять часов не выходит из уборной, а вчера бросил в меня стул, а дочка, эта жирная корова, – вы думаете, Розочка, она вступилась?
– Вот, – Люба отворачивает рукав, ее сухая ручонка сплошь покрыта синяками. Бабушка кивает головой. Слава богу, ей тоже есть что рассказать.
Она переходит на трагический шепот, косясь на меня, тихо играющую в комнате (тише, ребенок!), – нет, Люба, не обижают, но, честное слово, я их не понимаю, как это – ни серванта, ни обстановки, ни мебели, – одни книги, книги… я вас спрашиваю, Люба, что, – это можно кушать? С маслом? Меня никто не слушает, – я последний человек, Люба! Мне что, я смолчу, а ребенка (тут бабушка громко сморкается) … ребенка жалко…
Наконец, почти счастливые, бабушка с Любой расстаются.
А через несколько дней новое блюдо с холодцом на вытянутых руках моей бабушки торжественно вплывает в Мариину дверь, – слышны бурные изъявления благодарности, восторга, певучий Мариин голос (Мария с Западной Украины, с выступающими скулами и стройными икрами жгучая брюнетка, состарившаяся и спившаяся на моих глазах).
– Та ну, тетя Роза, та шо вы придумаете такое?
Удовлетворенная бабушка возвращается в дом, глаза ее блестят, – формальности соблюдены. Накормлены свои и чужие. День прожит не зря.
А ночью было холодно, потом горячо, а потом – тепло и сонно, как во втором классе.
Будто всё плохое позади, а впереди только хорошее.
Сломанная рука срослась, и на дом пока не задают много, и боженька (которого как бы нет) меня любит.
Вместо боженьки – дедушка Ленин. Везде, на всех стенах, – в спортзале, и на уроке пения. Добрый ужасно, и не такой уж старичок, между нами, – вполне интересный мужчина. Явно снисходителен к детским шалостям. Прищур, и пальчиком так, укоризненно, но нестрашно, почти как дядя Бусик, родственник моей тёти Ляли.
Вообще-то их двое – Бусик и Абраша, – Абраша и Бусик. Где стол, там и они. Бусик – точная копия Бубы Касторского. Он смешной, круглый, краснолицый, – от голубых глаз его не укрывается ничего. Абраша – построже. Но тоже добрый. Что примечательно, они никогда не появляются по отдельности и за столом сидят рядом, – оба грузные, шумные, но ничуть не страшные.
– А вот и армяне! – кричит Бусик, подпирая животом угол длиннющего стола буквой Т, – и чего на них, на этих столах, только нет, – закуски, горячее, десерт, – тут, главное, затаиться и переждать, пока огромное блюдо с горячим проплывает над головой, – сделать вид, что ты усердно ешь, сидишь прямо таки с набитым ртом, – а вот и армяне! – кричит Бусик и размахивает вилкой, и живот его подпрыгивает как бы отдельно от него.
Армяне – это мы, наша маленькая семья, и самый главный армянин – мой папа, – мама не в счёт, – она вносит на руках другого армянина – моего новорожденного братца, которого срочно нужно перепеленать.
Бабушка Роза подбрасывает его на руках и напевает, и приговаривает что-то, раскрасневшись, с озорной улыбкой.
Совсем не так давно я узнала, что же такого приговаривала моя бабушка Роза своему армянскому внуку. Если вы не законченный ханжа и вам более шестнадцати…
«Шейне эялах», – ворковала моя дорогая бабушка, подбрасывая моего брата на руках. В ответ на это брат заливисто хохотал и плутовато косил глазом, будто отлично понимал, о чём идёт речь.
Пока гости воркуют над младенцем, я успеваю обежать обе комнаты, порыться в огромной библиотеке и забиться в уютный уголок с новой книгой и каким-нибудь сладким пирожком.
Горячее, ты не ела горячее, – взрослые укоризненно всплёскивают руками, покачивают головами, но недолго, – все знают, что я – не едок, только расковыряю тарелку и всё равно ускользну из-за стола, и замру где-нибудь у этажерки с вожделенным томиком, – Гоголя? Майн-Рида? О. Генри?
Здесь никогда не ругают, и про уроки – ни-ни, – здесь всегда вкусно и тепло, пахнет выпечкой и вишнёвой наливкой, – здесь ещё живы Бусик и Абраша, и дед Иосиф, и бабушка Даша – та, которая танцует на столе, – здесь произносят тосты и украдкой вытирают слёзы.
До понедельника ещё далеко, – я влезаю на стул и обвожу красным грифелем следующую субботу и воскресенье, и все самые главные праздники – мой день рождения, ноябрьские, Новый год…
Это мой главный секрет.
Я живу от праздника до праздника – все остальное время умело имитирую жизнь. Хожу в школу, учу уроки, выхожу во двор – но все это так, пробелы, паузы, которые необходимо чем-то заполнить, усыпить бдительность.
Чью, вы спросите?
Ведь это так несправедливо, – это тягостное ожидание воскресного дня, это томление, бессмысленное заполнение каждого дня и часа.
Нет, что говорить, – будни – не для меня.
Я завидую тем, у кого жизнь, по моему мнению, сплошной праздник.
Артистам, клоунам, акробатам. Писателям.
Когда-нибудь, – мечтаю я, – наступит день, – и мне не нужно будет корпеть над уроками, фонетическим разбором и арифметическими задачками, рассчитанными на абсолютных идиотов.
«Из пункта А в пункт Б» – ну, надо же придумать этакую чушь? Что может быть глупей и бессмысленней для того, кто давно определил себя в великие… ну, допустим… клоуны… или писатели, или даже поэты.
Я снисходительно посматриваю на учителей, – многие из них откровенно неумны, – это, например, если сравнить со знакомыми мне взрослыми…