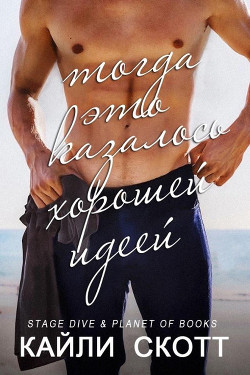быть такой женщиной-женщиной? Ведь у неё нет матери».
– Нет матери? – переспросил я.
– Да, а ты не знал? У неё мама умерла, когда она маленькой была. И она осталась с отцом.
Я тогда как-то не особо вдумался в это, но теперь, оглядываясь назад, понимаю, как многое это объясняло.
Их непонятное родство с Лёхой. Её невероятную женственность, которая будто была взята из старых голливудских фильмов и с обложек журналов, а не от реального человека. Маленькая девочка, лишившаяся матери, жадно впитывала вымышленные, художественные образы в попытках найти себя.
Все мы есть продолжение наших родителей, хотим мы того или нет. В течение первых лет жизни ребёнка родители лепят сосуды, которые потом наполняются уже его личным опытом. Но что, если одного из родителей нет? Может ли другой вылепить цельный прочный сосуд? Или где-то обязательно будет брешь?
Марго была в самом нежном возрасте, когда мама умерла – ей было пять. Разве отец, оправившийся от горя спустя два года и приводивший молодых барышень, мог научить её быть женщиной? Нет, она с природной жадностью ребёнка восполняла утраченное бесконечным просмотром кино, чтением художественных книг, гламурных журналов. Образы популярной культуры складывались для неё в пример того, какой она должна быть, и девочка безукоризненно взяла всё внешнее, но вот что должно быть внутри – так и осталось тайной, ведь ни один фильм и ни одна книга не способны раскрыть всю глубину человеческой природы.
Так и Лёха, лишившийся матери, не знавший отца, не видевший никогда примера того, каким должен быть человек, не был разборчив в людях, как слепой котёнок, идя за теми, кто его приманивал, кто казался «крутым».
* * *
Был у Ритки тогда и ещё один «ухажёр» – Лёша Болоцкий, Болото. Он приехал к нам на Новый год под вечер второго числа. Он тоже был с района, но из соседней тусы, редко с нами пересекавшейся. Видимо, в тот вечер он на Марго и запал, как-то не заметив постоянного присутствия Рыжего возле неё, и с тех самых пор начал активно набиваться нам в друзья.
Такой себе персонаж. Своё рвение с нами общаться он объяснял, поливая говном своих «бывших» друзей. Много говорил (часто громко и не по делу) и как-то особенно усердно окучивал Асю и Диму, к слову, лучших друзей Марго, которые наивно принимали его дружелюбие за чистую монету.
Мы все тогда недолюбливали Болото за его «ж**олизство», но стоит признать, что даже он подходил Ритке куда больше Лёхи. Эдакий сахарный маменькин сынок. Брендовые вещи, хорошая машина, в ушах серёжки. Он подражал уличным пацанам, но от этой самой улицы в нём ничего не было, потому что он столкнулся с ней только в последних классах школы, вырвавшись, наконец, из-под материнского крыла.
Аська рассказывала, что он привозил Ритке охапки белых роз, забирал их с Марго из клубов, ездил по Риткиным делам и всячески вился у её ног. Марго принимала его ухаживания: «А почему я должна отказываться? Он же не требует ничего взамен. Я не виновата, что нравлюсь ему!» Болоцкий всё надеялся на что-то большее, но, наверное, как и все мы, будь на его месте, не мог помыслить, что в этом деле возможен успех.
С Рыжим же… Тут была совершенно другая история. Ася говорила: «Дураки вы. Не понимаете, что это… это и есть чистая любовь!» Если про любовь Болота знали все из его же болтовни, то про чувства Рыжего толком не знал никто, хоть он и не скрывал своей нежности. Даже Ася не знала, что там действительно происходит, хотя происходило вот уже как месяц нечто совершенно интимное, совершенно непонятное.
Я тогда не мог это как-то для себя объяснить, а теперь думаю, что так чисто любить могло только молодое сердце.
Ответ Надежды
Я любил январские морозные вечера, когда солнце полчаса как простилось с горизонтом, но небо ещё сохраняет цвет яблочной мякоти, постепенно переходя в ультрамарин и оканчиваясь чёрной бездной с яркими точками звёзд, видных даже в черте города. Под таким небом огни города кажутся особенно яркими, а все здания и окружающие предметы приобретают особую чёткость линий и текстур, как на фотографии, в которой прибавили резкости.
После новогодних праздников зима тянется невыносимо долго, и если остаток января ещё можно пережить, то февраль выжимает все жизненные соки бесконечной сменой мерзопакостной оттепели на лютый мороз, вновь оборачивающийся оттепелью, которая сразу же сменяется остервенелой метелью.
Ясный, спокойный, хрустящий, ультрамариновый вечер может обернуться бурной ночью: как поднимется ветер, как затянет небесный свод снежными облаками. Облака эти как старое одеяло – пепельно-рыжее от вездесущего электрического света, видно, где-то с гигантской брешью, из которой всю ночь и весь день будет сыпаться невесомый пух, откладывая наступление весны на неопределённый срок. И уже следующим вечером, возможно, всё вновь обернётся оттепелью, от которой содержимое одеяла потечёт под ноги горожанам, заставляя их чертыхаться, злобно поглядывая на небо, в ожидании долгожданного тёплого солнца.
Только нужда может выгнать человека в феврале на улицу. Вечерами мы встречались и бесцельно бродили от подъезда к подъезду – с тем поболтать, с этим постоять. В один из таких вечеров мы с Саней и Родей зашли к Рыжему, подъезд которого славился на весь район как самый злачный. На шестнадцати этажах: с десяток отпетых нариков (конечно же, включая Лёху); добрая половина жильцов – алкаши; парочка девок, в свои двадцать уже водивших детей в детский сад; старая, известная на всё ранчо проститутка, прикалывающая к редким, выжженным добела волосам шиньон на два тона темнее. Пока оставшиеся в меньшинстве благонадёжные граждане спокойно спали в своих квартирах, весь этот сброд жил своей ночной, копошащейся по лестничной клетке жизнью.
Открываешь тяжёлую металлическую дверь, и в нос бьёт отвратительная вонь: мусор, моча, алкоголь – всё смешалось и вывалилось на тебя, чуть ли не сбив с ног. Несколько шагов – и лесенка, ведущая к лифтам. Справа от лесенки – батарея, под которой порой спал местный бомж. Под этой же лесенкой – прокисшая молочка для бездомных котов. Рыжему «повезло» больше всех – он жил на первом этаже. Поднимаешься по этой лесенке к лифту, взгляд направо – и сразу засаленная деревянная дверь без замка. За ней четыре квартиры: их с тёткой – две с новыми, красивыми дверями (ну точно вход в банковское хранилище! В одной они живут, другую сдают паре приличных молодых людей «славянской наружности» – как написала в объявлении тётка Рыжего), а две других – со старыми, ещё советскими деревянными дверьми. За одной живёт семья алкашей, за другой – квартира, которую сдают да пересдают всем подряд.
Мы поднялись