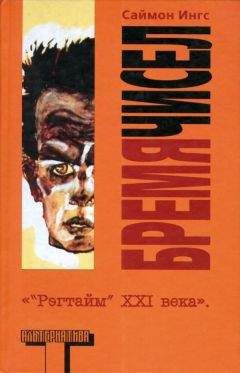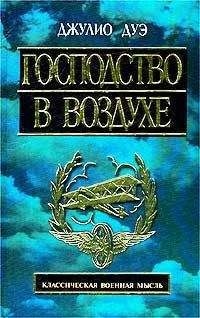А вон там, в углу, болтая о прочитанных книжках с Робертом, мужем Салли, сидит лысый плюгавый человечек в сером костюме — зазывала из Советского Союза.
Вы бы точно восхитились бульдожьей хваткой этого типа. Он потратил недели, если не месяцы, пытаясь установить дружеские отношения с будущими руководителями Мозамбика, изо всех сил обрабатывал их, раздавал направо и налево обещания. Но Жоржи Каталайо и совет ФРЕЛИМО взяли твердый курс на политику неприсоединения. Эта политика, опробованная на практике в дешевой лондонской кафешке, дала Каталайо возможность время от времени проказничать. Я присутствовал при разговоре, который он завел на следующий день после приема в китайском посольстве.
— А вас разве туда не пригласили?
— Нет, — отвечает посланец Страны Советов, надувшись от обиды.
— Китайский посол выразил одобрение позиции ФРЕЛИМО, взявшей курс на неприсоединение.
— Неужели? — настороженно произносит собеседник Каталайо.
— Он высоко оценил нашу веру в то, что народ Мозамбика способен сам решать все свои проблемы.
— В самом деле? — Собеседник делает большие глаза.
Каталайо улыбается своей фирменной улыбкой.
Русский покрылся испариной: неужели его начальство лопухнулось?
— И что вы ему на это сказали?
— Я послал его подальше. Вам вдогонку.
Всеобщий хохот.
Русского никто не воспринимал всерьез.
Распродажи Мириам требовали все новых и новых жертвоприношений. Не пощадили ни одной комнаты, ни единого шкафа, ни полки. Атмосфера — всеобщее покаяние в грехах — обрела лютеранскую мощь. С пыльных потолков исчезли люстры, со стены, оставив после себя яркий квадрат на выцветшей панели, — пробковая доска для объявлений. И наконец, Мириам покусилась на святая святых общества — библиотеку.
В конце каждого дня Мириам с парой немолодых завсегдатаев прочесывали библиотечные полки в поисках книг, достойных стать лотами аукциона. Они напоминали мне любителей мидий — те обычно начинают с самых сочных экземпляров, а заканчивают тем, что поглощают все подряд. Философия общества сама по себе так давно утратила четкие очертания, что даже у его долгожителей возникали сомнения, какие книги оставить, а от каких избавиться. Если здесь не место «Крылатой любви», то зачем оставлять на полке неполный комплект сочинений Джона Леманна? Чем таким обладает поэзия Кейта Дугласа и чего не хватает рассказам Джеймса Хенли? Если следует приберечь иллюстрированные каталоги работ Генри Мура, то по какой причине этого не заслужил Грэм Сазерленд? И что это за философское общество, которое держит на своих полках опусы Артура Кестлера, но отказывает в этом праве Дж. Б. Пристли и Дж. Д. Арвену?
Я прервал свое занятие. Вытащив книги из коробки, я выложил их на стол.
«А — К» и «Л — Я».
Философский словарь в двух томах.
К тому времени Жоржи Каталайо уехал из Лондона в Танзанию. Он оставил мне свой тамошний адрес. Я написал ему на форзаце первого тома: «Вы действительно учили английский по этой белиберде?»
Книгу я отправил ему по почте в тот же день и забыл о нем.
Жоржи Чивамбо Каталайо: бывший пастух, бывший исследователь ООН, борец за свободу, доктор антропологии. Больше я его не видел.
Память возвращает меня в день, предшествовавший его речи в Женском институте. Мы проводили время в забегаловке на Роман-роуд, объедаясь пончиками и надеясь на то, что сахар заменит нам вдохновение.
— Прежде чем что-то делать, — с пафосом произносит Жоржи, — надо, чтобы соотечественники были готовы сотрудничать с нами.
Сахарная пудра, джем, шоколадная глазурь — ему без разницы.
— Разобщенность — главная и величайшая наша проблема, — продолжает он. — В настоящее время жители одной деревни едва ли знают жителей соседней.
И тут я говорю:
— Твои слушатели тебя не поймут. Для них это ничего не значит. Как могут соседи не знать друг о друге? Дороги для нас — то же самое, что деревья. Или трава. То, что вы строите дорогу, даже не зная, куда она приведет, — это, скажу я вам, не для средних британских умов.
— Средних британских умов?
— Я хочу сказать, что не буду подыгрывать дамам в Женском институте.
Каталайо делает отметку в блокноте.
— Мы не можем приступить к строительству нового государства, — повторяет он свою мысль, — пока наши мужчины и женщины боятся и ненавидят друг друга.
— Как это понять?
— Так, что пока нами правят португальцы, в любую деревню в любой день могут приехать два грузовика для перевозки скота. Мужчинам солдаты прикажут залезть в один, женщинам — в другой. Мужчин могут отвезти работать в поля. Женщин — ремонтировать дороги. Мужчины и женщины из одной деревни — супруги, возлюбленные, братья и сестры, — возможно, больше никогда не увидятся. Не скажу, что это делается намеренно. Просто солдаты часто забывают, откуда брали людей на работы. Страна-то большая. Все местные для португальцев на одно лицо. Солдаты не знают языка чичева. А власти сделали все, лишь бы только мои соотечественники не выучили португальский. Вот солдаты и не помнят, кто откуда. Вечером они подъезжают к ближайшей деревне и дают тебе пинком под зад. Брысь из грузовика. Где твоя жена? Где твоя подружка? Никто не знает. Попробуй разберись. Главное, всем на это наплевать.
Он смотрит на меня.
— Ну, как?
Я киваю.
— Что это значит?
— Это знак согласия.
Он закатывает глаза к потолку.
— Помоги мне, Саул.
— Вряд ли этому поверят, — говорю я ему. — Здешняя публика выросла на стихах Киплинга. По их убеждению, закон и порядок — изобретение исключительно европейское. Чего бы там португальцы ни принесли чернокожим, главное, что поезда теперь ходят строго по расписанию.
В редких случаях, когда вдохновение покидало Жоржи Каталайо — к примеру, когда он выпивал слишком много кофе, съедал слишком много сахара и особенно когда сильно нервничал, — нужно было его раззадорить, сделать так, чтобы в нем вспыхнула искра ярости.
— Неужели ты думаешь, что отношения между нами и португальцами — это отношения просвещенного хозяина и доброго раба?! — набрасывается он на меня. — Мозамбик — это тебе не индийские княжества! Даже раджа не был бы раджей. Ладно, проехали…
Жоржи не договаривает фразы. У него возникла идея.
— В сороковых годах в Мозамбике проживало всего три тысячи белых. Теперь идиотов, считающих, что они лучше и выше всех лишь потому, что у них другой оттенок кожи, там целых двести тысяч! Это, скажу я, сродни диарее.
— Господи, не говори так!
— Пойми, хунта ограбила целое поколение, лишив людей образования. Если их оставить дома, они того и гляди свалят родное правительство. Вот народ и отправляют за море.
Жоржи допивает кофе. Вид у него вполне довольный.
— Я полагаю, эта речь будет посвящена роли женщин в освободительной борьбе?
Жоржи Каталайо бросает на меня кислый взгляд, замолкает и сосредоточенно размешивает в чашке кофейную гущу.
— Дьявол его знает, — вздыхает он. — Когда умер отец, мать сказала мне…
— Это не о женщинах, это о тебе.
Я загнал его в угол, насколько это было возможно.
— Нет, — отвечает он. — Не обо мне. Выслушай меня. Наши образованные мужчины не знают, что такое женщины. Они едва ли знают собственных матерей. Подобно мне, им рано пришлось покинуть родительский дом, чтобы пойти в школу. Под словом «покинуть» я имею в виду именно «покинуть», уехать из дома, иногда даже в другие края.
— И что? При чем здесь женщины?
Каталайо выдерживает мой взгляд и тихо отвечает:
— При том, что мы ненавидим их.
— Господи, ты это серьезно? Да они зубами вырвут твою печень. Те, у кого зубы еще остались.
— С какой стати мне отказываться от своих слов? Так оно и есть. Мы ненавидим наших женщин. Мы все валим на них. Они для нас что-то вроде козла отпущения. Они символизируют то, чем мы могли стать сами, если бы не уехали. Саул, ты знаешь, что у меня есть подружка? Что она белая американка? Как по-твоему, зачем мне белая подружка, к тому же американка? Я знаю. Она знает. Мы же не дураки. Мы знаем зачем.
— Я тоже. И все равно это — про тебя самого.
— А что до тех, кто не уехал, — продолжает Каталайо, пропустив мимо ушей мою реплику. — Что можно о них сказать? Какой смысл влюбляться, пытаться завести семью, установить нормальные человеческие отношения, если в один прекрасный день приедут солдаты и увезут навсегда твою мать, жену или дочь? Для женщин то же самое. Мужчины и женщины учатся обходиться друг без друга. Дети вырастают, понимая это. Вот что делает с людьми рабство.
Наконец-то! Сколько можно ходить вокруг да около.
Это отнюдь не самая яркая речь за всю его политическую карьеру, но и сидя в дальней части зала, я чувствую, что слова Каталайо задели слушателей за живое.