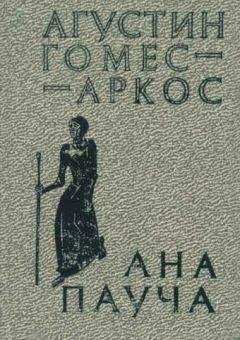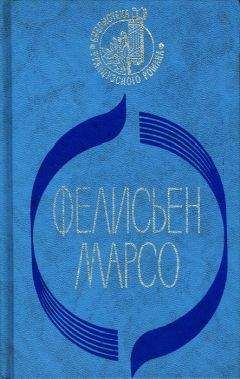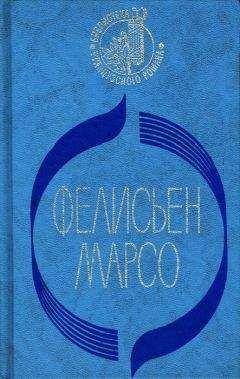И еще ее живот, бесплодный столько долгих лет, вдруг начал подавать признаки жизни. Он рычит, как зверь, или воркует, как голубь. Он вздувается, точно нарыв, и мгновенно опадает со звонкой, как раскат грома, канонадой. Таких звуков ее живот не издавал даже тогда, когда она носила в чреве своих детей. Педро Пауча обычно прикладывал к нему свое правое ухо (на левое он был туговат) и уверял, что слышит шум моря, как в морской раковине. Она, смеясь, говорила, что ей нравится иметь живот-чревовещатель. Если судьба обойдется с ней сурово, она всегда сможет выступать с ней в цирке. Это была шутка, супружеская игра. Она не знала, что предсказывает конец своей жизни.
В этих необъятных просторах, где и так редко встретишь человека, она сознательно ищет укромное место, чтобы спрятаться от посторонних взглядов. Ведь никогда не знаешь, на что станут глазеть пассажиры поездов. Не к чему выставлять себя напоказ. Она прячется за колючим кустарником, который царапает ее, и, как она ни старается, ее стоны, ее желудок производят вроде бы из-за пустяков слишком много шума.
Резкий короткий гудок локомотива напоминает ей, что дорога бесконечна, неумолима.
Воздух постепенно становится более студеным, как оставленная на ночь во дворе вода в кувшине. Временами Ану Пауча охватывает дрожь, заставляет съеживаться ее тщедушное тело, отданное во власть враждебному окружению. Ее губы окаймляет какая-то сомнительная, непонятного происхождения полоса. То ли остатки пищи, то ли высохшая слюна. Она пытается смыть это украшение нищеты холодной водой, но только до крови растирает кожу, и образуется новая корка, еще более зловещая. Ей кажется, будто ее губы торчат сами по себе, словно отделившись от лица.
Не плакать. Слов нет, ее положение бедственно, но она не должна еще больше отягчать его хныканьем. Она прикусывает себе язык с такой силой, что ей хочется кричать от били, и стремительно шагает вперед.
Потом неожиданно набегают тучи.
Никогда она не видела столько туч, да еще таких черных. Они быстрее, чем поезда, набегают с Севера, прячут солнце, одевая землю в серую униформу. Эту огромную серую тень, которая бежит гигантскими шагами, она чувствует на своих плечах, когда идет, пригнувшись к земле. Первый признак бури. Она приносит с собой внезапную жару, влажную и удушливую, тяжелую от грозовых разрядов, чуть ли не ночную тьму, молнию и гром. А в промежутках между раскатами грома — зловещая тишина, которая вызывает страх у зверей и птиц. Все смолкает. Линия горизонта становится пурпурной, словно солнечный свет убежал на другую половину планеты. Объятые ужасом деревья замерли в неподвижности, кровью своей ощущая гибельную опасность молнии. В надежде напитаться водой, оплодотвориться, стать щедрой земля открывает свои поры, свои губы, свои расщелины. Камни между шпал заостряют края, рельсы сжимаются. Застигнутая врасплох во время линьки, спасается бегством похожая на нищего в лохмотьях змея. Заросли колючего кустарника, до сих пор незаметные, неожиданно возникают на склонах холма, высовывая между камнями свои дрожащие усы, за какую-то секунду вынюхивают в воздухе опасность и исчезают в тайных подземных галереях. Где-то за холмами воет на эту неожиданную ночь собака. Окруженная одиночеством Ана Пауча поднимает голову, бросая вызов быстро надвигающейся темноте. Похоже, небо сейчас расколется, точно плохо обожженный горшок. Тучи причудливых очертаний наползают одна на другую, чудовищно совокупляются. Голубой цвет исчез. Воздуха тоже нет, он сменился чем-то тяжелым, чем дышать невозможно. Хотя Ану все чаще и чаще пробирает дрожь, она вся покрыта испариной и хватает ртом воздух, словно вытащенная из воды рыба. Ее тело словно наливается свинцом, ноги отказываются идти. Очень далеко, совсем вдали, в полумраке конца света она замечает старый пакгауз, скрытый несколькими жалкими эвкалиптами. Охваченная паникой, Ана пытается ускорить шаг. Она знает, как опасно море, его неожиданное и бурно волнение, но ей ничего не ведомо об этой спокойной густой всеобъемлющей тишине, о земле, которая готовится принять гнев разбушевавшегося неба. Удручающий любовный обряд, тягостная церемония обладания.
Она еще не успевает добраться до пакгауза и укрыться там, как раздается свисток поезда, и кажется, что именно он вызывает в атмосфере приступ безумия. Все трещит, словно рвут ткань, все сверкает и гремит. Огромные капли дождя набрасываются на землю, как свора бешенных собак. Они проникают сквозь лохмотья Аны Паучи, добираются до самых потайных уголков ее тела, словно мокрые черви ползут по ее рукам и ногам. Они ослепляют ее, пытаются вколотить в землю, похоронить в ледяном саване.
Оборванная воительница упрямо продвигается вперед, к убежищу. Она не знает, как защититься от этой разъяренной, совсем не похожей на морскую, воды, которая обрушивается на нее сверху будто бомба, пробуждая в памяти мрачные образы войны. Ана Пауча собирает все свое мужество и отбрасывает этот новый выпад смерти.
— Нет еще, потаскуха! Нет! — кричит она. Потом тише добавляет: — Потерпи, сестрица. Я еще не дошла до Севера.
После бури она двое суток дрожит в своем убежище от холода и лихорадки. Никто другой не смог бы вынести этого. Ана Пауча смогла. В бреду она ведет мужественное сражение. Она рассказывает теням почерневшие в ее памяти черные истории, подражая словам и голосу слепого Тринидада; чтобы продать воображаемым покупателям неотступно преследующий ее образ своей любви к Педро Пауче, она приоткрывает самый дальний уголок своего сознания, где похоронила тело этой любви в тот день, когда ее мужчины покинули дом, чтобы до смерти погрязнуть в войне. Я знала, что уже переживаю и агонию. Я приготовила свои вдовьи одежды. Я не вымыла своего тела, чтобы сохранить на нем последний пот Педро Паучи, его мужские запахи и страстные поцелуи моих сыновей. Я спрятала под платком свои косы возлюбленной. И, затопленная тишиной, любовь начала медленно, минута за минутой, умирать.
Она никогда не рассказывала о том, как умирала ее любовь. Она никогда больше не расскажет этого, когда к ней вернется сознание. Все оставит в таинственном полумраке разрушенного пакгауза. Потому что смерть любви — всего проявление преступной слабости, в то время как смерть Аны-нет, та, к которой она стремится всю свою дорогу на Север, — проявление силы. Добровольный акт. Совершенный с полной ответственностью.
В карманах пусто, в желудке пусто, в душе пусто — Ана-нет уже не знает, откуда черпать крохи энергии, необходимой ей, чтобы продолжить свой путь. Она ищет ручей, хочет помыться, надеясь так обрести силы. Но это оказывается почти непереносимым. Утренняя студеная вода обжигает белесые трещины между пальцами на ногах, срывает корки с фиолетовых ссадин на руках. Ана разрывает последнюю нижнюю юбку и делает повязки. Теперь на ней одно только тонкое черное платье. Когда она покидает пакгауз, ей кажется, будто она выставляет напоказ перед всем миром свою наготу, непристойную наготу, как она считает. От этих былых предрассудков ей как-то не по себе. Хотя нечего и думать, что кто-нибудь посмотрит на нее так, как смотрели тогда, когда она была Анитой — радостью возвращения. Она знает это. Тогда к чему упрямиться и рассматривать себя в зеркале прошлого? Нет больше никакой связи между Аной Паучей и Аной-нет. Между ними пролегла непроходимая пропасть. Опять же к чему упорствовать и принимать себя за человеческое существо? Она всего лишь отброс.
Сияющее солнце приветливо встречает ее новую антиприроду. Высокое и надменное, оно уже не испепеляет землю своим пылающим взглядом, как было перед бурей. Теперь оно позволяет траве покрываться росой, а в затененных местах день и ночь сохраняться влаге. Крестьяне на полях, которых видит Ана Пауча, уже не носят соломенных шляп, какие были у работающих в поле неделю назад они смотрят на горизонт не щурясь, не приставляя козырьком руку ко лбу. Лето явно покинуло эти места. Словно зябкие щенки, мелкой дрожью дрожат тополя. Не видно больше ласточек на электрических проводах. Вот она, осень, а Ана Пауча и не заметила ее приближения, потому что не было тех примет, которые ей некогда давало море. И моря больше нет в ее жизни. Она должна была бы даже отказаться от своей фамилии Пауча, потому что это морская фамилия и на этих каменистых землях она лишена смысла. И еще Ана должна была бы отказаться от своих воспоминаний о море. Как-то смириться. Но ведь есть еще ее сын Хесус Пауча, малыш, который ждет ее в своей тюрьме на Севере, и есть ее узелок, тяжелый от сырости, в котором хранится (все еще?) сдобный, очень сладкий хлебец с миндалем и анисом. Она уже не осмеливается назвать это пирожным.
Словно первый человек на земле (в день творения или разрушения, вот уж все равно), она питается травами, конями, луковицами растений. И как всем, кого на этой земле гонит по дорогам нужда, ей иногда выпадает удача, и она находит кукурузный початок, картофелину или свеклу, упавшие с товарняка, и грызет их, как крыса, часами. Десны у нее боля, зубы тоже, кожуру она выплевывает вместе с кровью. Она запоминает птицу в клетке, клюв которой облеплен шелухой от зерен. Холодный сентябрьский ветер лепит черное платье к ее иссохшему телу. Когда она дойдет до своего мифического Севера, от нее останутся одни кости. Как бы смерть не сломала о них свою косу.