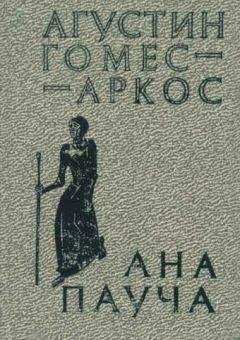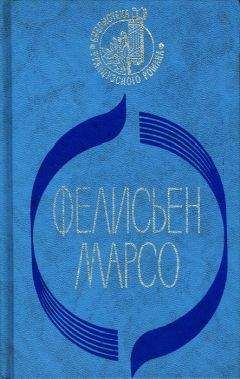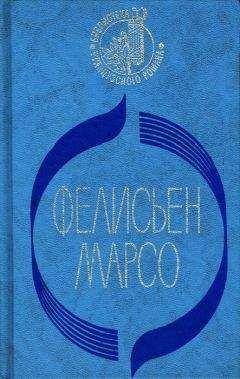Тень внезапно покидает квадратный двор, как если бы она только и ждала конца всех этих приготовлений. И в сиянии дня, словно солнечные лучи возвестили именно о его пришествии, прибывает маленький круглый господин. В правой руке у него небольшой пузатый саквояж темной кожи. Вот, наверно, единственный человек, который подумал о том, что надо захватить с собой самое необходимое. Хитрец. И право, никогда ведь не знаешь, что ожидает тебя в дороге.
Круглый человечек с пузатым саквояжем сразу же располагается в будке часового, тем самым внезапно прервав его полудрему.
Прибывают манифестанты. Длинная вереница людей, конец которой теряется где-то за воротами. Взгляд Аны Паучи не может объять все, но людей она видит. Можно подумать, что они не успели умыться (или сделали это в спешке), так они жмурят глаза на утреннем солнце. И морщат лоб, как будто вспоминают и никак не могут вспомнить свои сны. Или, может, их мучат воспоминания о кошмарах, который невольно хочется забыть.
Длинная вереница людей огибает стол и направляется к автобусам, проходя мимо будки часового. Там круглый человечек с улыбкой на губах вручает каждому двести песет, которые он картинным жестом вытаскивает из связок банкнотов, наполняющих его саквояж.
За покрашенными в черное с золотым чугунными воротами Ана Пауча через аркады замечает автобусы, сверкающие хромом в почти горизонтальных лучах утреннего солнца. Она слышит шут их моторов и видит, как один за другим они исчезают, наполненные вопящей толпой — вид у всех такой, будто они отправляются на праздничное гулянье. Монахини-ласточки и солдаты в серых мундирах без отдыха снуют взад и вперед, со двора на улицу и vice versa,[13] щедро раздавая советы и оплеухи, медальки и флажки. Несколько проституток присоединяются к манифестантам, на тот случай, если одинокие мужчины почувствуют себя слишком одинокими в дороге. Или в Мадриде. Но денег им не дают, даже если они тоже патриотки. Приношение на алтарь отечества они совершают стихийно, на свой страх и риск. Толстые дамы-распорядительницы, посовещавшись, соглашаются снабдить их завтраками, да, конечно, ведь милосердие не имеет границ, бог нам свидетель! Скрепя сердце им также разрешают подмазаться, словно они собираются играть в фильме ужасов милосердных самаритянок при Дракуле, оседлавших автобус под ярким сентябрьским солнцем на пыльных дорогах Кастилии. Единственная предосторожность, которую принимают по распоряжению госпожи супруги военного губернатора, — следят за тем, чтобы проститутки не проскользнули в автобус к семинаристам и солдатам. На карту поставлено здоровье отечества, набожно говорит она.
Время торопит. Солнце близится к зениту. Грандиозная манифестация в Мадриде намечена на два часа пополудни, а впереди еще не меньше четырех часов пути. А ведь еще может заглохнуть мотор, кому-нибудь понадобится выйти по нужде, да и заторы на дорогах неизбежны… Давай, давай, побыстрее, если тебя на заднем сиденье затошнит, высунешь голову в окно, вот и все!
Последней была вызвана Ана Пауча, как сказал голубой жандарм, «та красивая маленькая старушка, что провела ночь в камере предварительного заключения». Самая толстая из дам-распорядительниц, самая мужеподобная из феминисток — сторонниц режима, самая набожная их монахинь и голубой жандарм (самый голубой из всех жандармов) готовят ей завтрак (двойную порцию), чуть ли не на руках препровождают ее через двор, чтобы она не поранила себе ноги о старые камни мостовой, которыми он вымощен, наделяют ее четками, медальками, флажками и советами, представляют ее круглому человечку, хранителю кассы, заигрывают с ним, чтобы он одарил ее четырьмястами песетами вместо двухсот. Взгляните, господин казначей, какой королевский подарок! Восемьдесят лет! Нам ее послало Провидение! Ровесница нашего славного каудильо! Будто они знакомы с детства, будто вместе ходили в школу и под платанами на площади играли в жениха и невесту. Настоящее чудо!
При виде такого дива всех, включая сестру милосердия и шофера, охватывает бурное веселье. Для Аны Паучи освобождают переднее место в автобусе, смахивают пыль с сиденья из искусственной кожи, поднимают стекло почти до упора, чтобы ветер не бил ей в глаза. Короче говоря, усаживают ее на почетное место.
Маленькая Ана-нет безропотно подчиняется, не переставая прижимать к животу свой неразлучный узелок-иллюзию.
Автобус трогается. Ана Пауча не знает географии и потому не понимает, что она возвращается назад. Они едут в Мадрид, где отечество выразит свое одобрение убийце ее мужчин. Север удаляется от нее.
Наконец-то дорогу пожирают колеса автомобиля, а не ноги Аны Паучи. Как приятно путешествовать таким образом! Не надо неотрывно смотреть на землю, боясь споткнуться обо что-нибудь. Ее ноги в отпуске, икры не сводит судорогами, ляжки свободно расположились на мягком сиденье. Она не боится больше, что ее укусит змея или сама она по недосмотру раздавит улитку, медлительную и ленивую, как пьяный после обильной возлияниями ночи.
Наконец-то она может любоваться природой, обратить свой взор куда-то еще, а не на кучи отбросов на пустырях, не на откосы, заросшие колючим кустарником, не на старую солому в заброшенных пакгаузах, которая утратила свой первоначальный аромат хлеба или овса и пахнет бродягами и нищетой.
На этой новой для нее дороге деревья целомудренно одеты в известковые юбочки, а на некоторых, чтобы они отличались от прочих, даже написаны черным номера. Вот дерево, которое называется «515». Немного дальше старый кипарис как нельзя четко выставляет напоказ свое номер «520». На бетонных парапетах виадуков, перекинутых через ущелье, прыгают болтливые сороки, и кажется, что их чириканье обращено к глазеющим по сторонам путешественникам.
Через два часа будем в Мадриде, говорит шофер. Она довольна, маленькая Ана-нет. Она много раз слышала от людей, что Север недалеко от Мадрида. Какая удача — эта манифестация, думает она, не зная, то уже прошла мимо Мадрида со своим спутником Тринидадом.
К полудню солнце скрывается. Огромные тучи затягивают небо со всех сторон и обрушивают на землю неожиданный ливень, он яростно колотит по стеклам автобуса. Ана Пауча чувствует, как по всему ее телу разливается тепло, оно рождается где-то внутри, заполняет ее грудь, делает гибкими члены. Как приятно находиться в этой окруженной водой раковине, если ты сам в тепле! Все вокруг скрылось в этом лесу из текущих иголок. Все исчезло. Автобус движется вперед, словно лодка, упрямо рассекающая это отвесное море. Автобус стегают ветви деревьев, точно слепые рабы, потерявшие ориентацию в этом вставшем дыбом океане.
Старая женщина дремлет, не переставая жевать, словно козленок, сосущий мать с закрытыми глазами. За ее спиной манифестанты говорят об этой прямо-таки летней грозе, о лягушатах, которые после дождя повылезают повсюду, как в прошлом году и еще в позапрошлом, об улитках в остром соусе, которыми сегодня вечером полакомятся крестьяне, о поздней спарже, которая вырастит за эту ночь не меньше чем на палец. Кто-то заявляет, будто сентябрьский дождь пагубен для виноградников. Все тут же обзывают его пьяницей. И громко хохочут.
Ана Пауча есть свой завтрак и в разговор не вмешивается. Все, что касается земли, ей чуждо. Она женщин моря. Даже в полудреме она могла бы назвать наиболее благоприятную пору для ловли раков, для сбора сочных водорослей на корм свиньям или колоний рачков, которых варят в белом вине, для поиска отполированных волнами обломков кораллов. Она знает все секреты моря, но ни одного — земли. Она может предсказать приближение шторма по истерическому смеху чаек, но насмешливый пересвист желтоклювого дрозда не говорит ей ни о чем. Она сыта и позволяет себе уснуть.
Внезапно она просыпается. Дождь кончился. Облака разгромлены и безропотно бегут. Солнце появляется снова и заливает всю долину. Природа оделась в новые пламенеющие цвета: багрянец нив, жженая охра кустарника, фиолетовая глина холмов, которая не пропускает воду и позволяет пустить на их склонах корни только пышному, словно на аравийской земле, олеандру, черно-зеленым соснам да зелено-синим дубам… Стайка диких петушков распускает свое черное с золотом оперение, будто пиратский флаг на голой и бесплодной пахотной земле. Воздух сверкает пронизанным светом каплями дождя, попавшими в плен к вихрю переменчивого ветра. Гигантским знаком вопроса перешагивает через горизонт радуга. Ана Пауча улыбается.
Тряхнув головой, она отбрасывает прочь грезы, чтобы прочнее утвердиться в реальности своего путешествия. Часто ли организуют такие путешествия, как это? Впрочем, это называют не путешествием. Она слышит вокруг совсем другие слова: марш поддержки, манифестация всеобщего одобрения, признательности, уважения… В отдельных репликах и взрывах смеха она чувствует какую-то недоговоренность, натянутость. Будто за деланным весельем манифестанты хотят скрыть стыд. Сама же она, Ана Пауча, счастлива и старается подавить смятение, которое пробуждается в глубине ее души. Она благодарит эти одетые в резиновые шины колеса, как на крыльях мчащие ее по иссушенной земле кастильского плато, да к тому же с четырьмястами песетами в кармане. Пожалуй, когда она наконец-то доберется до Севера, то сможет позволить себе роскошь и раненько поутру испечь свежий миндальный хлебец (ведь можно же найти на Севере печь), а в тюрьму она придет днем, получит разрешение на свидание на пять или шесть часов вечера, а потом умрет. Во сне. Да, умрет во сне. Ночь, известно, самое подходящее время для того, чтобы покинуть этот мир. Как покинули его ее родители. Никого не беспокоя. Умрет во время первого ночного сна, легкого и мягкого, словно взмах крыльев сидящей на ветке птицы. Сна, в котором видения появляются, как полевые цветы. Умрет в самом разгаре сне. Но какого сна? О ее тысячу раз отложенном путешествии к норвежским фьордам, которое они с Педро Паучей должны были совершить на вершине своей любви, если бы война не порушила все их планы?