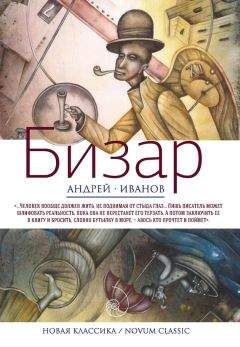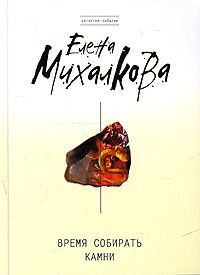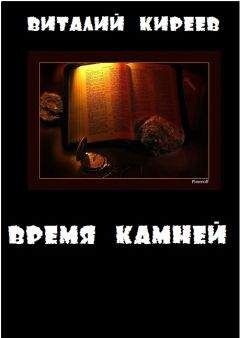– Ну а вы, молодой человек, уже закончили свою книгу? Готовы ли вы сделать доклад на семинаре? Или зачитать фрагмент? Рассказать об этом? Мне думается, всем было бы интересно! Тема беженцев вписывается в семинар, как вы считаете?
Это было ужасно, но мне было приятно, что все это слышала журналистка.
Вот и я, думалось мне, уже не просто там какой-то русский, который с молотком и долотом ковыряется в стенах замка…
Тогда же у старика появился какой-то биограф. Огромный толстяк лет сорока, с круглым мясистым животом и битком набитым кенгурятником, из которого частенько что-нибудь вываливалось: то сигареты, то блокнот. Стоял в разных местах в глубокой задумчивости, как следователь, изучающий место преступления. Пиджак на плече, блокнот с ручкой в руках. Прогуливался, поправляя кепку на голове, поглаживая подбородок. Светло-кремовая рубаха навыпуск. На шее миниатюрный дамский телефончик, на запястье – диктофон. Он часто в него бормотал что-то. Несколько раз я расслышал, как он сказал слово «личность», он стоял возле замка, вздыхал и с таинственной медлительностью повторял слово «личность». По телефону он говорил тоже как-то так, словно диктовал что-то. Старик подвел его ко мне, сказал, что я тоже пишу, что нам будет интересно; биограф сгреб и тискал меня, как младшего брата! Ничего не оставалось, как пригласить его к себе.
Было душно. Чай пили холодный. Он начал с того, что в Дании не так часто можно было встретить личность космического масштаба.
– Приезжал два раза далай-лама, но ведь это… – Он вздохнул. – Когда-то были Кьеркегор, Грунтви, а теперь… – Очередной вздох. – Такой религиозный проект заслуживает пристального внимания. Нужно как следует изучить. Это революционный момент в обществе. Многие не понимают, что на самом деле происходит в этой деревушке. Здесь не только православная христианская религия сходится под одной крышей с буддизмом, но и хиппи, анархисты, шаманизм и так далее. И кто об этом хоть сколько-то знает? Никто ничего не знает. Никто не знает, что здесь происходит. А здесь происходит зарождение общества нового типа, которое объединит в будущем разобщенные умы. – Он набирал обороты, я поддакивал. – Именно корни, традиции… Ямы, провалы между поколениями… Разобщенность и есть самая основная проблема века. Мы не можем совладать с замком мироустройства, как тут пытаются решить, как надо ремонтировать замок. Это превосходная метафора – этот проект! Мистер Винтерскоу придумал замечательный полигон, на котором вокруг этого полуразрушенного здания разыгрываются такие страсти. Он вовлекает людей, предлагает им решить, как и что делать, испытывает их… Поразительно! – вскрикивал он. – Однако, что знают про Хускего? Что это хиппи-деревня? Что тут сажают траву? Что это некое миниатюрное подобие Кристиании? Это все, что сегодня можно услышать от обывателя о Хускего. Для всех мистер Винтерскоу – странный старик, это в лучшем случае. Но этот странный старик – личность, необыкновенная личность, такая личность…
Долго рассуждал о том, что нужен такой человек, как мистер Винтерскоу, обеспокоенный спасением человечества, такой духовный и так далее. Чтобы спасти человечество, считал писатель, обществу были нужны новые идеалы. Обществу и подрастающему поколению был нужен новый герой. Такой, как мистер Винтерскоу. Не герои американских боевиков и тем более не такие герои, как современный датский герой, небритый, неряшливый, с оттянутым галстуком, расстегнутыми двумя пуговицами у шеи. Этот герой уже давно намозолил глаза. Отчего-то именно такой типаж стал доминирующим. Его теперь можно было увидеть повсюду: в Интерсити, автобусе, в каждом бистро…
– И чему такой герой учит? Он нас учит рутине, этот брюзга. Он учит нас, как надо стряхивать пепел, как надо манерно подносить бутылку пива к губам, как надо разговаривать с женщинами и коллегами. Этот измученный проблемами, разводами, любовницами, неурядицами герой. Этот циник, он нас ничему не может научить. Мы и так знаем то, что он там болтает. Мы и так до подкорки циничны! Он недоволен тем, что налоги такие высокие. Да, все недовольны! Он ведет годами борьбу с какой-то страховой компанией, которая не хочет ему выплачивать страховку за его травму. Ну и что? Он воюет с соседом по дому, который постоянно ремонтирует машины, шумит и пускает выхлопные газы ему в сад. Ерунда! Он бросает шутки в адрес пакистанцев. Это низко! Он едет в Венецию и падает в канал. Но это не смешно. Не смешно! Страшно, что целые поколения мужчин смиренно превратились именно в такого типчика с маской постоянной брезгливости и скепсиса на лице. Это катастрофа. Мы потеряли время, силы, людей. Это ужасно. Надо непременно что-то делать. Начать оздоровление социума. Нам нужен новый герой, который привнес бы новые идеалы, новое мышление и ориентиры. И он есть. Мистер Винтерскоу! Человек, который обеспокоен всякой божьей тварью!
Я ему рассказал, как мы нашли большой, опасный, на наш взгляд, гриб, который проел потолок в комнате гуру; когда мы поднялись на чердак, то за кучей бумаг и ящиков обнаружили его огромную голову и все его побеги, – он был просто гигантский! Мы надели маски, начали вырезать пол вокруг гриба, чтобы удалить его, как это делается. Дангуоле срубила лопаткой голову, стали убирать. Тут пришел мистер Винтерскоу, он просто разъярился, вышел из себя, стал топать, кричать… что мы не имели права так жестоко обойтись с грибом, даже не установив факт его смерти.
– Может быть, гриб не опасен! – задыхался старик. – Может, он не умер. Может, его можно оставить. Или перенести… Может, он не плодится. Мы ничего не знаем о нем. Пока мы ни в чем не уверены, мы не можем принять решение, как с ним поступить.
Старик отменил работы, связанные с уничтожением гриба. Он сказал, что возьмет несколько образцов, отправит их в Копенгаген.
– В лабораторию!.. – запаковывал он кусочки гриба в пакетик. – На экспертизу… чтоб специалисты изучили, а пока невозможно что-либо сказать…
– Поразительно! – вскричал толстяк, включая и отматывая диктофон (оказалось, он записывал весь наш разговор!). – Какая восхитительная иллюстрация проявления любви ко всему живому во всех формах! Даже гриб, который опасен… Даже гриб. Это надо донести до людей. Они должны это знать. Люди должны этим гордиться. Именно этим… а не… Нужно, чтобы люди задумались и поняли, чем гордиться… А представьте, если нам удастся построить по всей Дании, в каждом амте, вот такое Хускего, такой оазис! Мы станем Лхассой в Европе! О Дании будут говорить совсем иначе!
В голове после него гудело несколько дней…
* * *Старик начал пропадать. Его искали, а он спал где-нибудь. К нему обращались, он не понимал, что-то бормотал свое, потом срывался и уходил. Говорил, что у него очень важные дела, потрясал кулаком в воздухе, разговаривал с невидимым собеседником. А потом и вовсе исчез. Укатил куда-то… в Стокгольм и никому не сказал, что на неделю. Бросил всех на произвол судьбы. За себя-то я был спокоен, – я всегда мог сходить к ближайшему магазину, порыться в помойке с фонариком, найти что-то съестное. Мог и бутылки поискать. А вот непальцы с батюшкой, за этих стоило поволноваться. Старик совсем о них не подумал. Холодильник был пуст. И люди куда-то попрятались… Батюшка начал голодать. Обратиться за помощью не решался. Говорил он только по-русски. Очень стеснялся. Ходил и мерил шагами замок. Дойдет до балкона, сделает глоток из кружки и обратно шагает, до библиотеки. Постоит там, посмотрит с грустью на стеллажи, посопит в бороду и шагает обратно к балкону. В конце концов он так изголодался, что, учуяв запах африканской каши, пошел, пошел… и пришел к дому Басиру и Ивонны.
Добрая душа, Ивонна схватилась за голову: в каком плачевном состоянии наш дражайший гость!
Ей так не хватало мужского внимания. Она готова была взбивать для него подушки. Он так ей приглянулся. Такой импозантный и еще не такой старый господин в рясе!
Она жила с Басиру, привезла его из Гамбии; никто не знал, что у них там было – может, ничего и не было, так, контракт, соглашение… помочь музыканту из Африки… Очень часто случается…
Со стариком Винтерскоу исколесила полсвета. Сопровождала его в Индию и Африку, пока они не разругались. За это время она состарилась. Ей было только пятьдесят, но выглядела она как столетняя бабка. Все морщины ее были резкие, мелкие, одна к другой пригнанные, как потрескавшаяся картина Филонова, богатство черточек и полосочек, продольные, поперечные, и каждая выглядела так, словно не морщина, а царапина, оставленная злой ядовитой колючкою. Голос ее хрипел, что ветер в трубе; в груди постоянно клокотал вулкан – свирепый душил бронхит, далеко слышно было. Из Индии она привезла обломки Будды, она их вынесла с позволения пандита из старого развалившегося храма в подоле, несколько кусочков, из них Басиру собрал того самого Будду, который теперь стоял под дубом и своей безмятежной улыбкой встречал всех входивших в Хускего. Это все, что Басиру сделал своими руками. Он умел только пощипывать струны и петь… да и то, насколько хорошо, никто сказать не мог, ведь никто не понимал его музыки, никто не знал его языка… Он что-то там плел, вьюнок его импровизации вился вокруг него самого, он на глазах становился деревом, которое запуталось в собственных лианах, и как оно было спето-сыграно – хорошо ли, плохо ли, – никто не мог сказать. Просто говорили, что он джюджю и может заговорить обезьяну… Басиру с детства ничего не делал руками: его воспитывали джюджю и духи, он только умел их слушать и им подражать, а что-то еще… не научился… несколько раз пытался дрова рубить – чуть не убился. Топор вырывался из его рук и летел – летел куда-нибудь, – блистая лезвием и гудя на ветру топорищем, скашивая дождевые струи, и они падали, как колосья. Рядом стоять было опасно. Иногда, промахнувшись, уронив топор, Басиру принимался смеяться, но все вокруг оставались серьезными, покачивали головами, советовали ему ничего не делать… Видели, что Басиру с топором выходит, и прятались в дома.