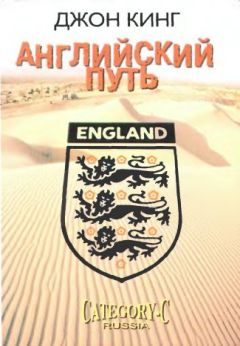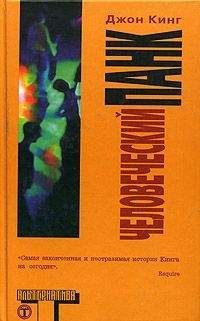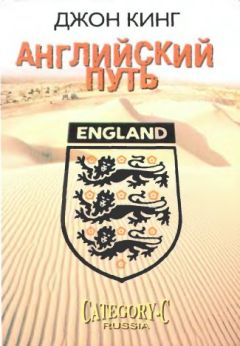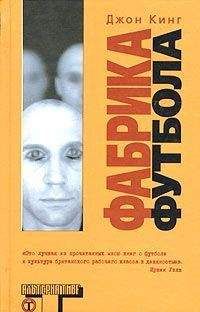— После высадки мы начали двигаться вперед. Захватив плацдарм, мы укрепились на нем и стали развивать наступление. Получалось это медленно и трудно. Никто не хотел уступать. Я не верю, когда говорят о «дружбе бывших врагов», потому что немцы причиняли нам боль, они были убийцами, но в то же время они были храбрыми людьми. Такими же храбрыми, как русские, британцы, поляки, канадцы и американцы. В общем, как кто угодно. Все мы верили в то, за что сражались, и были готовы умереть за это. Все изменилось, когда мы прорвали первый рубеж. Ожидание и подготовка были тяжелыми, но, укрепившись на земле и пройдя через убийство, мы изменились. В это трудно поверить, может быть, но мы стали спокойнее. Мы сблизились с товарищами, и теперь мы были сильнее немцев. Мы выигрывали войну. Мы боялись умереть, когда плыли на катерах, потому что там было слишком много времени думать, а сейчас мы поверили, что выживем. Мысль, что англичанин не может проиграть, сидит внутри нас с детства, и .когда началась бойня, именно она дала нам силу. Она дала нам уверенность, и когда ожидание закончилось, она сделала нас сильными. Мы должны были победить, и мы шли вперед. Немцы сражались до последнего, повсюду царила смерть. Постоянно видеть трупы было ужасно, и Билли Уолш и солдат с оторванной головой все время оставались перед глазами. Мы знали, что ничего более страшного мы уже не увидим. Смерть стала обычным явлением. Танки и пехота шли в глубь Франции. Местность была перерыта траншеями, Поэтому мы двигались медленно. Мы всякого насмотрелись. Речи Монтгомери были хороши, но для нас они больше не имели значения. Мы видели то, что перед нами, и ощущали плечо товарища. Рядом со мной шел Манглер и парень из Болтона по имени Чарли Уильямс. Это был весельчак с огненной шевелюрой, до войны он работал на текстильной фабрике. Дома у него остались жена и ребенок, и их фотография лежала в его бумажнике. Билли Уолш умер, но Тайни Доддс из Северного Лондона тоже был хорошим приятелем и Джим Моррисон из Хоунслоу, конечно, тоже. Мы шли маршем вперед и становились все сильнее. Мы знали друг друга по казармам и учебным лагерям, но сейчас было более сильное ощущение. Мы должны быть едины перед лицом врага. В обычной обстановке у тебя никогда не бывает столько друзей, потому что там все эти маленькие предубеждения и стереотипы, а теперь они исчезли и осталось только стремление выжить. Только то, что связывает людей, живущих одной жизнью, то, что нельзя передать словами то, что не уходит со временем. И неважно, сколько тебе лет. Потому что это — навсегда.
Гарри встает, чтобы пойти отлить, но спотыкается о мои ноги и буквально вываливается в коридор. Странно, как это он не разбил окно. Останавливается, говорит «извини», потом съебывает. Жирный ублюдок. Где-то поют ПЕСНЮ ПРО НЕСЧАСТНОГО ПАРНЯ. Наверное, скаузерс. Их история восходит к Бурской Войне, к сражению за Коп, и старая трибуна на Энфилд названа в честь погибших там людей. Интересно, что сказал бы Кевин. Наверное, ничего, потому что все-таки это были англичане, сражавшиеся за Англию. Марк поднимается и закрывает дверь, звуки песни становятся тише. Протягивает мне свежую бутылку. Раздает лагер Харрису, Билли и Картеру. Гэри Дэвисон и Мартин Хоу стоят в коридоре, разговаривают с какими-то другими англичанами. Поезд едет дальше. Лагер стал теплее, но пока пить можно. Убиваем время.
«Челси» и Англия всегда вместе. Мы всегда в авангарде поддержки на выездных матчах сборной. Нам наплевать, сколько иностранцев играет в нашем клубе. Это ничего не меняет, ведь деньги-то им платим мы. Европейцы работают на нас, а мы оплачиваем их дорогие апартаменты и шмотье от кутюрье. Всем необходимы классные иностранцы, но английский футбол не получает того, чего заслуживает. Рим — это совсем другая тема для разговора, англичанам приходилось держаться вместе в этом опасном городе. Англичане всегда валили итальянцев. Из года в год. Это в крови.
Германия проплывает за мутным окном, и всем наплевать на мелькающие один за другим города, деревни и поля. Я сижу, слушаю, как Харрис рассказывает что-то про Берлин и Германию. Просто отдыхаю. Это отличное ощущение, когда знаешь, что путешествие не закончено, что тебя ждет что-то еще. Беспорядки в Амстердаме сплотили всех. Да, кому-то это может не нравиться, но именно это делает поездки за сборной столь значимыми. Это — следующая ступень по сравнению с клубным футболом. Более острые ощущения, особенно в наш век камер и всего прочего.
Я падаю вперед, только тут понимая, что заснул. Вначале я думаю, что это Гарри вернулся из сортира, но затем замечаю его в дальнем углу. Остальные смотрят по сторонам, и я понимаю, что поезд стоит. Харрис поднимается и открывает дверь, чтобы узнать, в чем дело. Мы выходим в коридор, кто-то говорит, что якобы сорвали стоп-кран. Менгеле в сопровождении двух эсэсовцев протискивается сквозь англичан. Сейчас он куда более вежлив и не поднимает глаз, но прием ему оказывают тот же. Сраный пидор, нацепил униформу и думает, что стал крутым. Мы хотим знать, что случилось, почему мы стоим в центре хер знает чего. Может быть, дети разобрали пути, или тот суиндонский старикан взорвал двигатель. Что-то его нигде не видно. Но тут Гэри высовывается в окно, потом начинает смеяться. Мы кидаемся к окнам, пытаясь разглядеть то, что его так развеселило. Хулиганский Экспресс стоит, а лучше бы ему поехать, иначе Менгеле придется иметь дело с несколькими сотнями не самых безобидных пассажиров. Немецким мудакам стоит позаботиться, чтобы поезд пришел вовремя.
Мы видим фигуру, бегущую прочь от поезда. Кто-то говорит, что это скаузер, вписавшийся без билета, но Гэри отвечает «нет, это джорди». Голос с северным акцентом уверяет, что это кокни. Да кто угодно, этот молодой несется к виднеющемуся неподалеку перелеску. Он отрывается от службы безопасности — здоровых жирных крафтов, которые не могут бежать так быстро, боятся заработать инфаркт. Англичане аплодируют, колотят по стенам вагонов, и парень продолжает бежать, увеличивает свой отрыв от Гестапо. Что-то у него оказалось не в порядке. Может быть, сел на поезд без паспорта. Хуй знает. У самых деревьев он оборачивается и показывает Немцам два пальца правой руки, потом исчезает в лесу. Те добегают, стоят там некоторое время, пялятся в чащу, потом пожимают плечами и возвращаются к поезду, англичане смотрят из окон и стоят в коридорах, крутят пальцами у глаз, изображая шлем летчиков RAF и насвистывая мотивчик из Dam Busters. He уверен, что немцы знают, что мы имеем в виду, но они не могут не понимать, мы издеваемся. Они выглядят не слишком довольными.
После небольшой заминки поезд снова трогается, и мы рассаживаемся по местам. Не знаю, куда делся тот чел, но попасть в Берлин ему наверняка будет несложно. А может, так и останется там, в немецкой глуши, все может быть. Диверсант в тылу врага. Скорее всего мы встретим его в баре Берлине рано или поздно, и если он не лох, то ему будет о чем рассказать нам. Хотя здесь каждому есть что рассказать. Поезд набирает скорость, и я открываю новую бутылку.
Билл Фэррелл стоял неподалеку от станции метро Слоан Сквер, ждал, пока на светофоре загорится зеленый. Сейчас его окружал другой мир, мир дорогих магазинов и респектабельных людей. Лица были так не похожи на лица лондонских рабочих. Благоухающая кожа, изысканные прически; даже черты лиц казались какими-то иными. Он улыбнулся, глядя на всех этих правильных мужчин и женщин, ни дня в жизни не знавших страданий и лишений. Нет ничего нового под солнцем, и английские солдаты вовсе не собирались устраивать революцию после войны, они хотели просто немного лучшей жизни. Демобилизованные солдаты хотели работы и уверенности в завтрашнем дне, он не помнил, чтобы кто-нибудь из его приятелей интересовался политикой или идеологией.
Парни с севера были другими, они всегда держались друг друга, они привыкли к этому, работая на своих больших заводах и фабриках, хотя парни из доков Восточного Лондона вряд ли уступали им. Это не как в Ольстере, конечно, но все-таки Лондон и Юг отличались от Севера. До войны он никогда не сталкивался с северянами, и они оказались хорошими парнями, такими же, как все остальные, в них не было ничего похожего на стереотипы. Конечно, они по-своему представляли себе лондонцев. В их глазах все лондонцы были раззявами-кокни, модниками, лохами, слабаками. Уличными торговцами, мелкими спекулянтами, коммерсантами. Но во время войны барьеры рухнули, и их больше ничто не разделяло. То же самое было и с шотландцами и валлийцами; тогда Фэррелл просто не знал, сколько католиков проливало кровь за Англию в составе Ирландского Корпуса. В мире все перемешалось тогда, все казалось другим, не таким, как раньше. Под пулями все прочие проблемы сразу забывались.
Люди мечтали о лучшей жизни после окончания войны, и Черчилля так и не переизбрали, несмотря на все то, что он сделал для победы. Люди хотели мира, стабильности, социальных изменений. У солдат было чувство собственного достоинства, они хотели, чтобы дома их уважали. После доклада Бевериджа93 безработным стали выплачивать пособие; если после Второй мировой и было сделано что-то хорошее, то именно это. Сражаясь в Европе, Фэррелл не хотел, чтобы с ним повторилась история его дядей. Он помнил, каково пришлось им после войны, и надеялся на лучшую участь. Да, у поколения Фэррелл а было пособие и система пенсий, но все это было сильно урезано, когда к власти пришли тори, да и новые лейбористы видели в социализме только плохое. Фэррелл старался не озлобиться, но это было трудно. Даже во время войны случались забастовки, и Черчиллю пришлось даже ввести Бевина94 в состав правительства. У людей оказалась короткая память. Они или забывали, или перестраивали прошлое в соответствии с тем, что им говорили сверху. Только молодежи не было необходимости в этом.